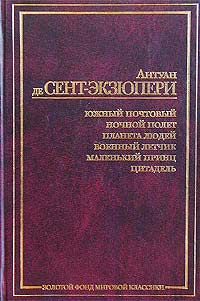Антуан Экзюпери - Цитадель
Не стоит смешивать слова разных языков, хотя, верю, тебе так недостает прилагательного, чтобы передать яркую зелень ячменного поля, а у твоего соседа оно есть. Но слово только знак. «Жена у меня красивая», — сказал ты, но разве кто-то понял, как ты любишь ее? «Мой друг так скромен», — сказал я, но разве кто-то узнал, как я к нему привязан? Мы не передали и малой толики того, что живит нас. Мы определили, как определили бы неодушевленный предмет.
Есть на свете народы, которые как качественное ценят иные, чем мы, качества, которые ищут имя совсем иной картине, что увиделась им сквозь общую для нас всех вещность мира. И они нашли имя своей кар тине. Можно найти особое слово и для беспричинной тоски, что щемит вдруг сердце на пороге дома, когда садится солнце, меркнет свет и впереди лишь потемки с тусклой луной, тоска эта сродни страху перед смертью: как быстро сонное детское дыхание становится прерывистым дыханием болезни, похожим на последние усилия усталости, карабкающейся в гору, слыша его, тебе становится так же страшно: а что, если твой малыш не захочет карабкаться дальше? — и тебе так хочется взять его за руку и помочь. И вот ты это свое нажитое умещаешь в одно слово, им начинают пользоваться, и оно становится родовым наследием твоего народа.
Но передал ты всем нам уже известное. Мой язык не стремится передать цветущую полноту качества, в нем нет слова, обозначающего «розовый цветок», зато он умеет сплетать слова и ловить тебя их сетью. Слова моего языка не представят воочию женского лица, но красоту его ты угадаешь по тому, как у тебя вдруг захолонет сердце, будто от глотка ледяной воды в зной.
Так дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа, дорожи умением сплетать слова, как плетут ивовые корзины и рыболовные сети. Смешивая слова разных языков, ты не обогатишь человека — опустошишь. Человек, желая выразить переживаемое, отыскивает новые средства, но ты предложил ему готовое, стертое, и он успокоился; он стремился передать нового себя, себя прозревшего: вернувшись из пустыни, он понял, как ярок зеленый ячмень, но ты предложил ему чужой запас, он перестал вглядываться в себя, он им походя воспользовался.
Ты занялся бестолковой работой, решив дать названия всем на свете цветам и оттенкам, собирая названия повсюду, где они только есть; решив поименовать все оттенки чувств и обращаясь за именами во все края, где переживают и чувствуют, заимствуя из тех языков, которые по воле случая запечатлели в слове опыт поколений или личный опыт души, например ощущение щемящей тоски сумерек. Тебе кажется, всемирная тарабарщина обогатит людей. Но не словарный запас — божественное достояние человека, — изъяснение самого себя, своей сокровенной сущности, которой не исчерпать никаким словом. В наших силах дать ее только почувствовать, но слов, будь их как песчинок в пустыне, как капель в море, все равно окажется мало.
Какое имеет отношение то глубинное, что ищет сказаться в тебе, к куче наворованных слов, что засорили твой язык и мешаются?
Именовать стоит лишь горные пики, отличные от уже известных, благодаря которым ты по-новому увидел мир. Я создал произведение и, возможно, с его помощью сотворил в тебе новую истину — назови ее, и она останется божеством в святилище твоего сердца. Только божество по-иному связывает для нас знакомое, заставляет по-новому увидеть давно известное.
Так пойми же, я постиг. И рад коснуться раскаленным железом твоего сердца, оставив клеймо, которое поможет тебе расти. Рад, потому что не хочу, чтобы ты блуждал впотьмах.
Но имей в виду, словом ты только обозначаешь ключ свода, постигаю я его не словесно, невозможно обозначить ни собственную суть, ни жизнь. Я не умилюсь, не растрогаюсь, если ты раскрасишь небо алым, а море синим, — не задаром ли ты хочешь получить доступ к моей душе?
Связующие нити твоего языка — вот путь ко мне, стиль — это путы Бога, говорю я. С ним ты передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни, ни у кого другого таких не сыскать. А если со всех сторон только и твердят что о звездах, да о горах, да о родниках, кому придет в голову подниматься на вершину, чтобы из звездного родника утолить нестерпимую жажду светящимся молоком?
Даже если в чужом языке уже есть слово для того, что я ищу выразить, и, выразив это, я ничего не создам и не обогащу мир, не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно тебе каждый день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий.
Но если моя картина озарила тебя иным пониманием вещей, уподобилась вершине, что упорядочила пейзаж, став подарком тебе от Господа, дай ей имя, придумай слово, чтобы она не забылась.
LXXXV
Извечная тоска по жизни души истомила меня. И я почувствовал — ненавижу приверженцев насущного. Они твердят о своей любви к реальности, но что, кроме хлеба, предлагают они человеку? Хлеба, чей вкус мало изменила цивилизация? И я до сих пор говорю о воде, преобразившейся в поэзию.
Ты доволен, став губернатором моей провинции, доволен потому, что я зодчий, я выстроил свое царство и сумел восхитить тебя им. Своей радостью ты обязан мне, хотя сейчас меня нет рядом и я тебе не в помощь. Тешит тебя не реальность — утехи тщеславия неосязаемы, — тешит та значимость, какую обрела она, сделавшись царством.
До пятнадцати лет умащали юницу благовонными маслами, она знает, что такое поэзия, изящество, тишина. От нежного лица ее веет покоем, сколько в нем глубины и значимости, покой ее сродни освежающей воде родника — так неужели ты мне скажешь, что твою ночную жажду утолят одинаково и она, и купленная тобой девка только потому, что тела их схожи?
Тебе кажется, ты стал богаче оттого, что не отличаешь одну от другой, не тратишь времени на ухаживание, — и, конечно, девкой делаются куда скорей, чем принцессой, но поверь мне, ты обеднел.
Может быть, тебе не понравится принцесса, стихи тоже не даются задаром, как нежданное наследство от дядюшки, они — твое собственное восхождение вверх; может быть, тебе не по вкусу будет ее утонченность, ведь есть музыка, которой тебе никогда не услышать, потому что ты не пожелал учиться, — но это вовсе не значит, что принцессы плохи, это значит, что тебя еще нет.
В молчании моей любви я слушал, как двое беседуют. Беседа перешла в крик. Засверкали ножи. Так решают спор подонки, живущие в грязных лачугах. Они жадны только до жратвы и дерут глотки только из-за того, что уместилось в их несколько скудных слов. Но не за женскую плоть ты готов пришить соперника, эта женщина для тебя — кров, без нее ты бесприютный изгой. И вечерний чай не в чай тебе, потому что ее нет рядом.
Но если, увидев, как дорожат люди вечерним чаем, ты, из присущей людям близорукости, возвеличишь чаепитие и заставишь всех поклоняться чайнику, они разлюбят чай, и у тебя не будет ни вечерних чаепитий, ни любви.
Если ты проникся значительностью материнства и радостью иметь детей, видя, каким благоговением окружена роженица — возле ее постели тишина, словно у алтаря, — ты снова не видишь целого. И вот ты стараешься, чтобы рожали как можно больше, строишь повсюду больницы, огромные, как хлев или конюшня, и размещаешь в них стада беременных женщин.
Ты убиваешь то, ради чего старался, — никому не интересны чувства коровы, когда идет массовое разведение скота.
Я взращиваю в человеке душу, поэтому ставлю перед ним преграды и границы, загораживаю от каждого сад: я хочу благоговения перед детьми, и поэтому требую, чтобы детей было как можно меньше, на словах, только на словах, — потому что они должны стать дорогими сердцу. Я не доверяю логике, я верю только в перепады почвы, поощряющие прилив любви.
Если ты есть, ты растишь свое дерево, но, если дерево задумываю и создаю я, — я протягиваю тебе только семечко. Оно — возможность, в нем таятся самые разные цветы и плоды. И если ты принимаешь его и начинаешь расти, то вырастешь моим, но непредсказуемым деревом, потому что предсказаниями я не занимаюсь. Я дал тебе возможность жить, жить самим собой. Но твоя любовь будет плодом моей любви.
LXXXVI
Я споткнулся о порог — бывают времена, когда распадается язык и при помощи слов ничего не улавливается, ничего не предсказывается. Эти люди пришли ко мне, предложили вместо ребуса мир и потребовали разгадки. Нет у мира разгадки, потому что нет в мире смысла.
— Скажи, что нам делать — покоряться или бороться, — спрашивают они. Нужно покориться, чтобы выжить, нужно бороться, чтобы продолжать быть. Предоставь все жизни. Правда жизни едина, но открывается всегда как противоречие, это и есть злоба дня. Но не тешь себя иллюзиями: сегодняшний ты всегда уже мертв. Твоя противоречивость — противоречивость преображения, ты меняешь кожу, поэтому тебе так больно, поэтому ты страдаешь. Кожа трескается, лопается. Твое молчание — молчание зерна в земле, оно должно прозябнуть, прежде чем пуститься в рост. Твое бесплодие — бесплодие куколки. Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья.