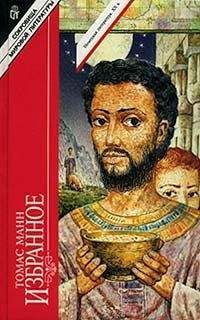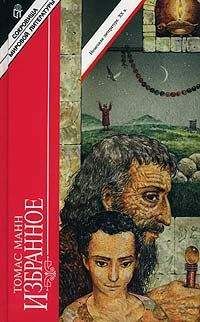Томас Манн - Иосиф в Египте
— Истинно так, добрый мой бобренок! — отвечала Туий. — Не странно ли, однако, что сейчас мы еще сидим в своих креслицах и беседуем у входа в эту часовенку, но уже вскоре будем лежать у ее задней стены на львиноногих подставках носками вверх, в ларях, на которых у нас будут вторые лица с бородами богов — Усир Гуий и Усир Туий, а над нами склонится остроухий Ануп?
— Наверно, это действительно очень странно, — прохрипел Гуий. — Только я не в силах представить себе это так ясно, а напрягаться боюсь, ибо голова у меня уже устала — тогда как ты еще отлично владеешь своими мыслями и шея у тебя куда как крепка. Это меня беспокоит, ибо может случиться, что ты, благодаря своей свежести, не почиешь вместе со мной и останешься в своем креслице, когда я буду лежать, и отпустишь меня одного идти по узкой тропе.
— Об этом не беспокойся, совенок! — отвечала она. — Твоя слепышка не отпустит тебя одного, и если ты умрешь первым, она вкусит травы подмаренника, убивающей жизнь, и мы все равно будем вдвоем. Я непременно должна быть возле тебя после смерти, чтобы помочь тебе вразумительно объясниться и оправдать нас, если будет суд.
— А суд будет? — с тревогой спросил Гуий.
— К этому нужно быть готовым, — отвечала она. — Так утверждает учение. Однако неизвестно, вполне ли оно достоверно. Есть учения, похожие на заброшенные дома: они целы и невредимы, но никто в них уже не живет. Я говорила об этом с Бекнехонсом, великим пророком Амуна, и спрашивала его, как обстоит дело с палатой богинь права, с весами сердец и с допросом перед лицом Западного Владыки, рядом с которым сидят сорок два носителя ужасных имен. Бекнехонс не дал мне ясного ответа. Учение сохраняет свою силу, сказал он твоей кротихе. Все должно навсегда сохранять свою силу в земле Египетской, и старое и то новое, что возникло с ним рядом, чтобы страна была до отказа полна изображений, строений и учений, мертвого и живого и чтобы люди почтительно ко всему относились. Ибо мертвое только священнее, оттого что оно мертво, это мумия правды, которую нужно навеки сохранить народу, хотя бы даже приверженцы новых взглядов духовно от нее отошли. Так сказал мудрец Бекнехонс. Но он деятельный слуга Амуна и ратует за своего бога. Царь преисподней, владыка изогнутого посоха и опахала, заботит его меньше, и меньше заботят его истории и учения этого великого бога. Если Бекнехонс называет их заброшенным зданием и закутанной правдой, то это еще не значит, что нам не придется предстать перед судом, как верит народ, и доказывать свою невиновность. И вполне возможно, что наши сердца будут взвешены на весах, прежде чем Тот выправит нам освобождение от сорока двух грехов и Сын за руки отведет нас к Отцу. К этому нужно быть готовым. Потому твоя совушка должна быть непременно рядом с тобой не только в жизни, но также и в смерти, чтобы держать речь перед владыкой престола и носителями ужасных имен и объяснить им все нами содеянное, если вдруг у тебя не найдется вразумительных оправданий в решающий миг. Ибо мой летучий мышонок порою бывает уже несколько туповат.
— Не говори так! — крайне хрипло воскликнул Гуий. — Если я бываю туповат и устаю, то только из-за долгих и тяжких раздумий о вразумительном объяснении; но о причинах своей тупости может говорить и тупица. Разве не я навел нас на эту мысль, разве не я зажег ее в священной темноте, мысль о жертве и примирении? Уж этого ты никак не можешь отрицать, ибо, конечно же, это моя заслуга. Ведь из нас двоих мужчина и плодотворен все-таки я. Пусть я как твой брат и супруг в священной темноте нашего совокупления человек темный, но все-таки именно я, мужчина, зажег в старинно-священной обители мысль о постепенной выплате долга священно-новому.
— Разве я это отрицаю? — возразила Туий. — Нет, старая твоя супруга вовсе не отрицает, что именно ее темный муж первым завел речь о различии между священным и величественным, то есть тем новым, которым, возможно, повеяло в мире и к которому мы, сами того не зная, стремимся, так что на всякий случай лучше задобрить его примирительной жертвой. Твоя мышка не знала этого, — прибавила она, замотав, как слепая, своей крупнолицей, со щелками глаз головой, — и довольствовалась священной стариной по своей неспособности понять новые веяния.
— Нет, — кряхтя, возразил ей Гуий, — ты отлично все поняла, когда я завел об этом речь, ибо ты очень понятлива, хотя и совсем ненаходчива; но ход мыслей брата и его озабоченность веяниями и веком ты поняла как нельзя лучше — разве иначе ты согласилась бы на уступки и жертвы? Впрочем, «согласилась» — это, пожалуй, не то слово; мне кажется, что я только научил тебя тревожиться о веке и веяниях, а на мысль, что мы должны посвятить темного сына нашего священного брака величественному и новому, отняв его у старого, — на эту мысль ты напала сама и раньше меня.
— Ну, и хорош же ты! — сказала старуха и зажеманилась. — Ты просто-напросто хитрец-коростель, если ты теперь утверждаешь, что речь об этом завела я, и в конце концов, чего доброго, свалишь все на меня, когда придется держать ответ перед царем преисподней и перед носителями ужасных имен! Ах ты, плутишка! Ведь я же это только поняла — и не больше, только приняла от тебя, мужчины, точно так же, как зачала от тебя нашего сына темноты. Гора, царедворца Петепра, которого мы сделали сыном света и посвятили величественно-новому, как того требовала мысль, от тебя исходившая, а мною, словно матерью Исет, только принятая, выношенная и рожденная. А теперь, когда нужно оправдываться и на суде может оказаться, что мы поступили неверно и совершили промах, теперь ты, проказник, хочешь быть ни при чем и уверяешь меня, что я зачала и родила это совершенно самостоятельно.
— Глупости! — сердито прокряхтел Гуий. — Хорошо еще, что мы одни в этом домике и никто не слышит вздора, который ты городишь. Ведь я же сам признал, что я был мужчиной и зажег в темноте светоч открытия, а ты облыжно приписываешь мне, что я считаю, будто зачатие и рождение могут соединиться, как то, может быть, и случается в болотах и в черноте речного ила, где бурлящее материнское вещество обнимает и оплодотворяет во мраке само себя, но никак не в высшем мире, где самец добропорядочно приходит к самке.
Он безголосо откашлялся и пожевал губами. Его голова сильно качалась.
— Не настало ли время, дорогая жерляночка, — сказал он, — привести в движение Немого Слугу, чтобы он подал нам освежительные лакомства? Мне кажется, что твой лягушонок уже очень устал от этих мыслей и его силы истощены раздумьями о вразумительном оправданье.
Не переставая безучастно глядеть мимо них, Иосиф уже приготовился было побежать на коленях; но надобность в этом миновала, ибо Гуий продолжал:
— Но я думаю, что на мысль о подкреплении сил наводит меня моя взволнованность этими раздумьями, а не настоящая усталость, и встревоженный желудок может его отвергнуть. Нет ничего более волнующего в мире, чем тревога о веяниях и о веке, она важнее всего, и разве только еда занимает еще более важное место. Конечно, сначала человек должен поесть и насытиться, но стоит ему только насытиться и избавиться от этой заботы, как его начинают одолевать тревожные мысли о священном и о том, что оно, может быть, уже совсем не священно, а наоборот — ненавистно, потому что начался новый вен и нужно поскорее усвоить новые веяния и задобрить их какой-нибудь искупительной жертвой, чтоб не погибнуть. Но поскольку мы, супруги и близнецы, богаты и знатны и у нас, разумеется, сколько угодно вкуснейшей еды, то для нас нет ничего более важного и более волнующего, чем эти дела, и у твоего старого лягушонка давно уже качается голова от этого волнения, в котором так легко совершить непростительный промах при попытке полюбовного соглашения…
— Успокойся, мой дорогой пингвин, — сказала Туий, — и не сокращай без нужды свою жизнь такими волненьями! Если будет суд и учение окажется справедливым, то уж я постараюсь, держа речь от имени нас обоих, объяснить подвиг искупления настолько понятно, что ни боги, ни носители ужасных имен не причислят его к сорока двум провинностям, а Тот выправит нам освобождение от всякой вины.
— Да, очень хорошо, — отвечал Гуий, — что ты будешь держать там речь, ведь ты представляешь себе все это гораздо лучше и не так сильно взволнована всем этим, потому что все это ты не открыла, а только поняла, только приняла от меня, а значит, и говорить тебе легче. Я же, как первооткрыватель и плодотворец, вполне могу сбиться и начать заикаться перед этими судьями, и тогда наше дело проиграно. Ты будешь обоим нам языком; ведь язык, как ты, наверно, знаешь, двуснастен и отвечает в скользкой темноте своего логовища за оба пола, как болото и как бурлящий ил, который сам себя обнимает, тогда как на более высокой ступени миропорядка самец приходит к самке.
— Ты, как то и положено на более высокой ступени, добропорядочно ко мне приходил, — сказала она, с жеманным смущением покачав своей большелицей, с подслеповатыми щелками глаз головой. — Тебе суждено было приходить долго и часто, прежде чем твоя сестра сподобилась благословенного плодородия. Родители соединили нас браком в весьма раннем возрасте, и потребовалось много лет, чтобы союз брата с сестрой стал плодородным и я понесла, а затем и родила тебе нашего Гора, царедворца Петепра, друга фараона, прекрасный лотос, в чьем доме, в верхнем его этаже, мы, священные родители, и доживаем свои последние дни.