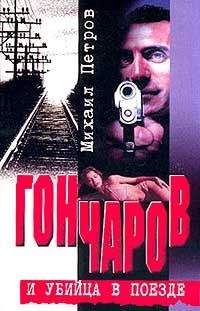Иван Гончаров - Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания
Везде идут оживленные толки, высказываются надежды, ожидания. Молодость волнуется, с свойственным юности нетерпением спешит заявлять свои желания.
Задача нелегкая со стороны тех, от кого зависит судьба университетского образования – решить так, чтобы удовлетворить стремлениям молодых людей в духе времени, не делая малодушных уступок в ущерб образованию и во вред самим учащимся.
Нелегко и со стороны последних, заявляя свои задушевные желания, кровные нужды, воздержать раздражительное юношеское нетерпение и не переступить кое где и кое в чем за черту своих законных желаний.
Бывшие студенты всех возрастов, рассеянные по всем путям общественной деятельности, не могут, конечно, смотреть на эту борьбу равнодушно, как старые инвалиды не смотрят равнодушно на молодых бойцов.
Тем, которые лично не втянуты в эту борьбу по своему положению или занятиям, остается вспоминать прошлое – от этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военного инвалида).
Меня собственно, – глядя на эту современную пчелиную работу в наших университетских ульях и прислушиваясь к толкам в обществе, – как старого студента московского университета тридцатых годов, тянет к воспоминаниям совсем не самолюбивая мысль о пользе какой-нибудь, не желание поднести публике и студентам урок – нет. Я не одарен никакими свойствами и способностями учительства, да и сам не желал бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урок от молодежи, если что-нибудь в моих воспоминаниях не пришлось бы ей по сердцу.
Меня влекут просто воспоминания о лучшей поре жизни – молодости – и об ее наилучшей части – университетских годах. Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было.195 Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом.
Я говорю о московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток. Впрочем, всякий из восьми наших университетов, если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие.
Наш университет в Москве был святилищем не для од них нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе – впрочем, редкие – слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полициею и т. п. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества.
Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества. Дух юноши поднимался; он расцветал под лучами свободы, падшими на него после школьной или домашней педагогической неволи. Он совершал первый сознательный акт своей воли, приходил в университет сам, его не отдают родители, как в школу. Нет школьной методы преподавания, не задают уроков, никто не контролирует употребления им его часов, дней, вечеров и ночей.
Далее следуют шаги все свободнее и сознательнее, достигается «степень зрелости» без всякого на нее гимназического диплома. Свободный выбор науки, требующий196 сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождавшееся из того определение своего будущего призвания – все это захватывало не только ум, но и всю молодую душу. Университет отворял ему широкие ворота, не в одну научную сферу, но и в самую жизнь. С учебной почвы он ступает на ученую. Умственный горизонт его раздвигается, перед ним открываются перспективы и параллели наук и вся бесконечная даль знания, а с нею и настоящая, законная свобода – свобода науки.
Программы, инструкции бессильны против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, она с университетской кафедры изливается широким и вольным потоком. Между профессором и слушателями устанавливается живой ток передачи жадному вниманию их ее откровений, истин, гипотез. Этой свободы не дают или не давали (так как я говорю о прошлом) другие из высших гражданских, военных или духовных за ведений.
Я не говорю, чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников. В университетах молодежь, более чем в других заведениях, ограждена серьезною содержательностию занятий от многих опасных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека… Но тем не менее на лекции налагалось иногда veto 1, как, например, на лекции Давыдова .
Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты. Говорили, что в них проявлялось свободомыслие, противное… не знаю чему. Я не читал этих лекций.
Где же, казалось бы, и проявляться свободомыслию, как не в философии? Но как бы то ни было, лекции были197 закрыты. Это противоречит, повидимому, сказанному мною выше о свободе науки. Напротив. Наука может быть вовсе отменена, кафедра ее закрыта, как это и сделано с лекциями Давыдова, но если бы она не закрывалась, ограничение профессорского слова, духа и смысла его лекций едва ли было бы возможно. Профессор сумел бы дать понять себя, а слушатели сумели бы угадывать недосказанное, как читатели умеют читать между строками.
Гораздо позже, при императоре Николае Павловиче, преподавание философии поручалось в университетах, как известно, духовным лицам.
Возвращаюсь к своим воспоминаниям
Я и брат мой и еще некоторые прежние школьные товарищи вместе готовились к вступительному экзамену и вместе подали просьбу ректору университета.
Это было в августе 1831 года: 1830-й – был холерный год, и лекций не было. Бывшим уже в университете студентам не зачли этого года.
Брат и я поступали – он в юридический факультет, а я в филологический, или, как тогда назывались они, – первый «этико-политическим», а второй – «словесным».
Мы с братом и товарищи наши издалека готовились и были хорошо приготовлены к экзамену, о требованиях которого, конечно, заблаговременно справились до мелких подробностей, до методы, до книг, и потому вышесказанные страх и трепет умерялись некоторою уверенностию в успехе.
Среди этих надежд надо мной неожиданно разразилось, как громовой удар, известие, что из министерства народного просвещения получено предписание требовать от вступающих в словесное отделение знания греческого языка, который хотя преподавался в университете для филологов, но до тех пор не был, при вступлении, обязательным.
Я знал порядочно по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без последнего языка нельзя было поступить ни в какой факультет. Я переводил à livre ouvert
1 Корнелия Непота, по которому все учились, как по «Телемаку» Фенелона во французском198 языке. Я был совершенно спокоен – а тут вдруг понадобился греческий язык!
К счастью, предписание пришло за несколько месяцев до экзамена, так что с юношескою энергией можно было – если не покорить вполне эллинскую речь, на что надо положить чуть не целую жизнь, – то хоть что-нибудь выучить, и что окажется в итоге четырех- или пятимесячных молодых стараний и сил, то и принести на экзамен.
Я и другие, кто поступал в словесное отделение, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложив все прочее, напустились на грамматику и синтаксис, и с этим скудным, приобретенным с грехом пополам запасом явились на экзамен.
Много воды подлил этот греческий язык в мои теплые надежды. Но все обошлось благополучно.