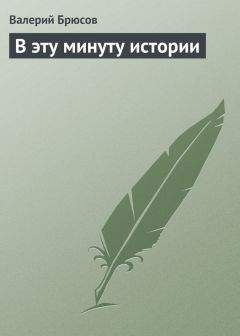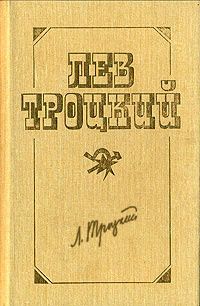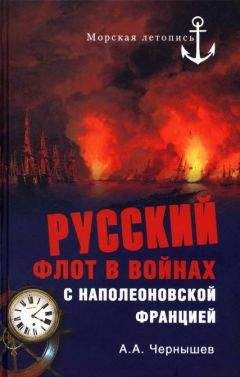Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
Однако все на свете меняется на наших глазах. Он написал мне однажды, после того как уже был несколько лет капельмейстером, нижеследующее письмо:
«Милый патер!
Жизнь, которую я веду, очень несчастна: чем больше вы меня утешаете, тем больше я это чувствую.
Когда я вспоминаю о мечтах моей юности, — как я был счастлив в этих мечтах! Мне казалось, что я буду беспрерывно предаваться фантазиям и изливать свое переполненное сердце в произведениях искусства, — но как чужды и суровы оказались для меня сразу же годы ученья! Как горько мне было, когда завеса предо мной раскрылась! Я узнал, что все мелодии, хотя бы они и возбуждали во мне самые гетерогенные и часто чудеснейшие ощущения, основывались на одном единственном, неумолимом математическом законе!
Узнал, что вместо того, чтобы свободно летать, мне предстоит сперва научиться карабкаться по неуклюжим подмосткам в клетке грамматики искусства! Как мне пришлось мучиться, чтобы добиться путем обыденного научного механического разума чего-либо соответствующего всем правилам, прежде чем я мог подумать о том, чтобы выразить мое чувство в звуках!.. Это была тягостная механика! Но как бы то ни было, я обладал еще упругостью юности и все надеялся на прекрасное будущее! А теперь?.. Роскошное будущее превратилось в жалкое настоящее.
Какие счастливые часы проводил я мальчиком в большом концертном зале! Когда я сидел безмолвно и неприметно в уголке, очарованный всей его роскошью и великолепием, и так страстно желал, чтобы эти слушатели собрались когда-нибудь также и ради моих произведений, чтобы чувство их пробуждалось мною! Теперь я весьма часто сижу в том же зале и исполняю там также и мои произведения; но я чувствую себя поистине совсем иначе. Как мог я себе вообразить, будто эта выступающая в золоте и шелку публика собирается, чтобы насладиться произведением искусства, согреть свое сердце и показать художнику свое впечатление! Раз эти души не могут воспламениться даже в величественном соборе, в день самого священного праздника, когда на них мощно действует все великое и прекрасное, что может дать искусство и религия, то чего же ждать от них в концертном зале? Чувство и вкус вышли из моды и считаются неприличными. Проявлять к какому-нибудь художественному произведению чувство было бы так же странно и смешно, как если бы кто-нибудь в обществе вдруг заговорил стихами и в рифму, в то время как вообще-то в жизни пользуются разумной и общепонятной прозой. И для этих-то душ изнуряю я мою душу! Для них стремлюсь я достигнуть того, чтобы пробудить в них какие-либо чувства! Вот то высокое назначение, для которого я считал себя рожденным!
И когда кто-нибудь, обладающий хоть какими-либо чувствами, вздумает меня хвалить и критически одобряет и задает мне критические вопросы, — то мне всегда хочется попросить его, чтобы он не давал себе такого труда изучать чувство по книгам. Бог знает почему, но когда я только что насладился музыкой или каким-либо иным, восхищающим меня художественным произведением и все существо мое полно этим, то мне хотелось бы передать мое чувство одним штрихом на доске, если бы только краска могла его выразить. Я не в состоянии хвалить искусственными словами, я не могу высказать ничего умного.
Меня, конечно, немного утешает мысль о том, что, может быть, где-нибудь в маленьком уголке Германии, куда попадет то или иное из написанного мною; хотя бы и спустя долгое время после моей смерти, живет какой-нибудь человек, которому небо внушило такую симпатию к моей душе, что он воспримет в моих мелодиях как раз то, что я чувствовал при их сочинении и что мне так сильно хотелось вложить в них. Прекрасная мысль, которой можно некоторое время весьма приятно себя обманывать!
Наиболее ужасными, однако, являются все остальные обстоятельства, опутывающие художника. Обо всякой отвратительной зависти и подлости, обо всяких противно мелочных обычаях и столкновениях, о всяческом подчинении искусства воле двора — мне претит сказать хотя бы единое слово; до того все это недостойно, до того унижает человеческую душу, что говорить об этом у меня язык не поворачивается. Сугубым несчастьем для музыки является то, что в этом, искусстве как раз необходимо участие такого множества рук, для того чтобы произведение могло существовать! Я сосредоточиваю и возвышаю всю свою душу, чтобы осуществить крупное произведение, — и сотни бесчувственных и пустых голов вмешиваются в это и требуют того или иного.
Я мечтал в юности бежать от земной юдоли, а между тем теперь-то и окунулся в самую грязь. К сожалению, несомненно, что, несмотря ни на какие усилия наших духовных крыл, оторваться от земли невозможно; она насильно тянет нас к себе обратно, и мы попадаем снова в самую пошлую людскую среду.
Вокруг меня я вижу художников, достойных сожаления. Даже самые благородные из них так мелочны, что не знают, как себя вести от чванства, если невзначай их произведение приобретет широкую популярность. Боже милостивый! Да разве мы не обязаны половиной нашей заслуги божественности искусства, вечной гармонии природы, а другой половиной — всеблагому творцу, даровавшему нам способность применять это сокровище? Разве все эти бесчисленные прелестные мелодии, вызывающие в нас самые разнообразные ощущения, не возникли из единственного чудесного трезвучия, которое природа создала от века? Эти, полные грусти, то приятные, то мучительные ощущения, вызываемые в нас, неизвестно как, музыкой, что они такое, как не таинственное действие сменяющихся мажора и минора? И разве мы не должны благодарить творца за то, что он нам как раз даровал умение так сопоставлять эти звуки, которым изначала присуще было сочувствие человеческой душе, чтобы они трогали сердце? Поистине, почитать надо искусство, а не художника, который не что иное, как слабое орудие.
Вы видите, что мое рвение и моя любовь к музыке не стали слабее, чем прежде. Потому-то я так и несчастлив — впрочем, оставим это! Не буду омрачать вас описанием всех этих противных нравов вокруг меня. Достаточно сказать, что я живу в весьма нечистой атмосфере. Насколько идеальнее жилось мне в былое время, когда я, в простодушной юности и тихом уединении, еще только наслаждался искусством, чем теперь, когда я им занимаюсь в ослепительнейшем светском блеске, окруженный исключительно шелковыми платьями, звездами и крестами, исключительно людьми культурными и со вкусом! Чего бы мне хотелось? — Мне хотелось бы покинуть всю эту культуру и бежать в горы, к простому швейцарскому пастуху и подыгрывать его альпийским песням, по которым он тоскует, где бы ни находился».
Из этого отрывочно написанного письма можно отчасти видеть то состояние, в котором находился Иосиф. Он чувствовал себя покинутым и одиноким среди шума стольких негармоничных душ вокруг. Искусство его было глубоко унижено тем, что не производило, насколько он знал, ни на кого живого впечатления, тогда как ему казалось, что оно создано было исключительно для того, чтобы трогать человеческие сердца. Зачастую в часы уныния он приходил в полное отчаянье и думал: «Как странно и необычайно искусство! Неужели оно только для меня одного обладает столь таинственной силой, а всем остальным людям служит лишь для развлеченья и приятного времяпрепровождения? Чем же является оно действительно и на самом деле, если для всех людей оно — ничто и только для меня одного — нечто? Не несчастнейшая ли это мысль сделать это искусство своей единственной жизненной целью и главным занятием и вообразить себе тысячу прекрасных вещей о его глубоком действии на человеческие души, о том искусстве, которое в настоящей земной жизни не играет большей роли, чем карточная игра или любое иное времяпрепровождение?»
Когда ему в голову приходили подобные мысли, то он представлялся себе величайшим фантазером в своем стремлении сделаться мировым художником-исполнителем. Он напал на мысль, что художник должен творить только для себя одного, для подъема собственного духа, и для одного или нескольких людей, которые его понимают. И я не могу отказать этой мысли в некоторой справедливости.
Но я буду краток в остальном рассказе о жизни моего Иосифа, ибо воспоминания об этом наводят на меня грусть.
Несколько лет прожил он таким образом капельмейстером, причем уныние и неприятное сознание того, что он, несмотря на все свое глубокое чувство и искреннее влечение к искусству, для мира не нужен и гораздо менее полезен, чем любой ремесленник, — все более и более возрастали. Часто с грустью вспоминал он о чистом, идеальном энтузиазме своего детства, а вместе с тем и о своем отце, о том, как тот старался воспитать из него врача, дабы он облегчал человеческие страдания, исцелял несчастных и тем приносил пользу миру. «Может быть, так было бы лучше!» — думал он временами.
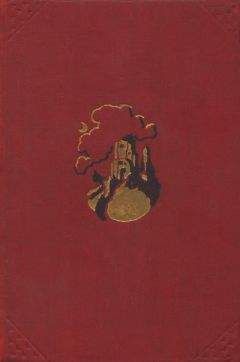
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)