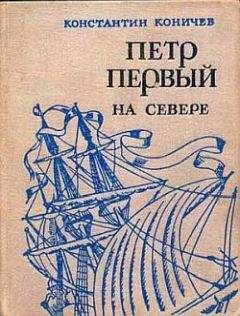Василий Быков - Карьер
– А, понятно. Болит? Конечно, будет болеть. Если тяжелое ранение...
Они вошли на кухню, Агеев выдвинул гостю стул, сам сел по ту сторону стола напротив.
– О, тут у вас тепло. И запах! – хрящеватыми ноздрями Ковешко с жадностью втянул воздух. – Запах как у хорошей стряпухи. Интересно, сами готовите?
– Сам, – сказал Агеев, в душе проклиная его обоняние. Еще полезет искать стряпуху.
– Хозяйка не явилась? – тихонько спросил он и насторожился. По этой его настороженности Агеев понял, что хозяйка – не праздный его интерес.
– Нет, еще нет, – сказал Агеев. – А что, вас хозяйка интересует?
– Совсем нет. Спросил ради простого любопытства. А так нет. Вовсе не интересует. Ведь она же вам не родительница? – спросил он и снова прищурил острые глазки.
– Ну допустим, – сказал Агеев, вдруг вспомнив свой первый разговор с начальником полиции. Черт их знает, как с ними держаться, с этими служителями новой власти? Работают они заодно или врозь?..
Ковешко тяжело вздохнул, задумчиво пробарабанил пальцами по гладкой доске стола. Хорошо, что Мария успела прибрать посуду.
– Видите, пан Барановский... – он слегка замялся, но тут же нашелся и договорил: – Будем называть вас так. Нам известно, конечно, что вы не Барановский, но теперь не будем уточнять. Главное, вы беларусин, и я это почувствовал сразу...
– Это каким же образом? – по-прежнему держась на известной дистанции в отношениях, спросил Агеев.
– Э, что тут спрашивать. Я, пане, земляка-беларусина за версту чую. Нюхом чую. А вы, извините, хоть и по-российски говорите, но в каждом вашем слове звучит беларусин. Древняя мова, знаете, с поганских времен, со времен Великого княжества. Ее не так просто искоренить. Если российцы за столетия не искоренили...
– А как же немцы?
– Простите, что немцы? Не понял, – сразу наморщил увядшее личико Ковешко.
– Как немцы отнесутся к этой мове?
– Хе-хе, батенька, это весьма проблематично, – осклабился Ковешко. – Весьма проблематично, хе-хе. Но мы выживем, – вдруг тише, но яростнее заговорил гость. – Мы выживем! Главное – искоренить зло номер один. А потом...
– Как бы нас самих не искоренили, – не удержался Агеев.
– Нет, этого не может быть. Этого не должно быть, – потянулся к нему через стол Ковешко. – Немцы – культурная нация. К тому же сила христианской традиции. Я долго жил среди них, знаю... я весьма уповаю...
– На их культурность?
– Да, и на культурность.
– Культурность, а убивают сотнями. Женщин и детей! И заботятся, чтоб еду с собой взяли. На трое суток! – вдруг с гневом прорвалось в Агееве, и он тут же пожалел: нашел перед кем метать бисер. Но сказанного не воротишь. Он думал, что Ковешко разозлится и станет угрожать, а тот вдруг упрекнул со снисходительной укоризной:
– Так это же евреев! Надо понимать.
– А евреи – не люди?
– Неполноценная раса, – с нажимом сказал Ковешко. – Оно, может, и чересчур жестоко. Может, и не совсем по-христиански, но... Если разобраться, они нам чужинцы. Они испортили нашу историю. Они веками разжижали дух беларусинов. Не будем жалеть их...
– Не будем жалеть мы, не пожалеют и нас.
– И не надо. Не надо, пан Барановский, не надо жалости! Жалость – удел слабых. Это хотя и христианское чувство, но, несомненно, из числа атавистических. Не надо жалости! Сейчас нам нужны сила и сплоченность. Конечно, под германскими знаменами, фюрер – он вождь арийцев, а беларусины наполовину арийцы. Кривичи которые. Правда, некоторая часть сильно подпорчена инородцами, особенно татарами и жидами. Но мы люди скромные, рады и тому, что осталось. Есть, есть здоровое ядро, из которого разовьется раса. Надо только положиться на силу.
– На германскую силу? – с иронией уточнил Агеев.
Ковешко иронии не понял и почти обрадовался подсказке.
– Вот именно – на германскую. Другой силы на земном шаре теперь, к сожалению, не существует.
– А вдруг найдется, – с неслабеющим чувством протеста сказал Агеев и посмотрел в блеклые глаза гостя. В глубине их тлел, однако, довольно злой огонек, и Агеев сказал себе: хватит, так можно и доиграться. Наверное, что-то понял и гость, может, смекнул, что слишком далеко зашел в своем разговоре – хотя и с беларусином, но, в общем, малознакомым ему человеком.
– Ну что ж, приятно, знаете ли, поговорить с умным... и твердым человеком. Твердость убеждений, она всегда что-то значила. Даже и ошибочных. Теперь это нечасто бывает. Вот и эта... ваша хозяйка, значит... Барановская. Она ведь женщина твердых взглядов?
– Не знаю, – с нарочитым безразличием сказал Агеев. – Не интересовался.
– Не интересовались? И напрасно. Вот вы побеседуйте как-нибудь...
– Как же побеседуешь, если ее нет? Уже вторую неделю.
– Это печально. Нам она тоже нужна. Нам она даже необходима. Но куда она запропастилась? А вам она не говорила? – спросил Ковешко и снова замер, полный внимания.
– Нет, ничего не говорила.
– Да, вот загвоздочка, – гость снова задумчиво побарабанил по столу худыми пальцами. – Знаете что? Она должна дать о себе знать. Не может того быть, чтобы не дала о себе знать. Так вы это, того... незамедлительно сообщите.
– Это куда? – спросил Агеев. – В управу или в полицию? Ковешко хитро прищурился.
– Не знаете? Какой вы, однако, непонятливый, в самом деле... При чем здесь управа?
– Так вы же в управе работаете?
– Это, батенька, неважно, где я работаю. А сообщить следует в СД. Это, знаете, в помещении бывшей милиции...
– А Дрозденко? – не мог чего-то понять Агеев.
– Не беспокойтесь, пане. Дрозденко мы объясним.
– Вот как! – удивился Агеев, подумав про себя: черта лысого вы от меня дождетесь. И вы с вашей СД, и Дрозденко тоже.
Он молча проводил гостя до улицы, и тот, видно, удрученный какой-то неудачей (может, отсутствием Барановской), сухо кивнул на прощание и мелкими шажками засеменил по улице. Агеев еще постоял недолго, чувствуя, как где-то внутри у него поднимается злобная волна – от своего бессилия, пассивной покорности, вынужденной подчиненности. И кому? Они уже связали его и с СД, мало им оказалось полиции. И вот вынуждают – упрямо и настойчиво – на явное предательство, теперь уже по отношению к Барановской. Хотя в случае с Барановской он не мог им ни пособить, ни нашкодить, он сам ничего о ней не знал. Но как бы не пронюхали о Марии! Правда, похоже, пока что она их не интересовала, может, не заинтересует и вовсе? Пропала, ну и бог с ней, видно, у них есть дела поважнее. Разве что случайно, выслеживая Барановскую, могут наткнуться на Марию, тогда уж, пожалуй, им несдобровать обоим.
Агеев прошел по тропинке в огород, осмотрел сад, словно там мог прятаться новый Ковешко, и не спеша вернулся на кухню. Марии, конечно, простыл тут и след, наверное, забилась на чердак, и он, накинув в пробой крючок, взобрался туда же. Мария сидела на корточках в темном углу за сундуком.
– Ушел, не бойся...
Она с облегчением выбралась на место посвободнее, отряхнула от пыли подол сарафанчика. Следы страха и тревоги еще тлели в ее настороженном взгляде, внимание уходило в слух. Но, кажется, вокруг было тихо.
– Что он? Про меня спрашивал?
– Про Барановскую, – тихо сказал Агеев. – Зачем-то им Барановская понадобилась.
– Вербуют, наверно, – просто сказала Мария, и он насторожился.
– Вербуют? А зачем им ее вербовать?
– А они теперь всех вербуют. Почти поголовно. Чтоб потом выбирать. Кто нужнее.
Они оба стояли возле слухового окна, вглядываясь в его мутные, затянутые паутиной стекла и вслушиваясь в неутихающий шум ветра в ветвях. Мария с брезгливой гримасой на серьезном личике вертела пуговицу своего вязаного жакета.
– Этот... Дрозденко и меня хотел. Подписочку требовал...
– Вот как! – вырвалось у Агеева.
– А вы думали! – Мария виновато улыбнулась.
– Ну и что же ты?
– А я вот ему! – она показала Агееву маленький, туго стиснутый кулачок. – Чтоб на своих доносить!.. Шавкой немецкой сделаться! Нет, этого они от меня не дождутся...
Агеев отошел от окошка и опустился на сундук – долго стоять не позволяла нога, которая сегодня с утра ныла неутихающей застарелой болью. С тихой завистью подумал он о Марии, что вот она увернулась, избежала ярма, а он не сумел, не нашелся или побоялся, может. Правда, положение у них было разное, она смогла скрыться, а куда бы мог скрыться он? Наверное, в два счета оказался бы в шталаге для пленных, что для него было равнозначно гибели.
– Что же мы будем делать, Мария? – спросил он почти сокрушенно. Положение их все усложнялось, а выхода по-прежнему не было видно. Оставалось ждать, но ведь дождаться можно было самого худшего. Протянуть время, промедлить, утерять шанс, когда уже трудно будет что-либо исправить.
– Не знаю, – тихо произнесла Мария.
Передернув худым плечиком, она прислонилась к деревянному брусу возле слухового окна и печально посмотрела наружу. Она не знала, конечно. Впрочем, он и не ждал от нее другого ответа, отлично понимая, что в таком деле должен искать выход сам – как старший, военный, обладающий большим опытом и наверняка большими, чем она, возможностями. Но беда в том, что он не знал тоже.