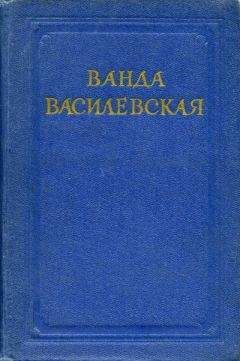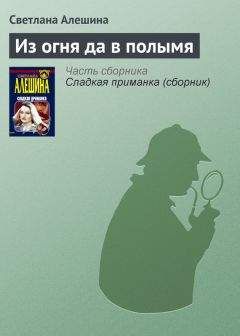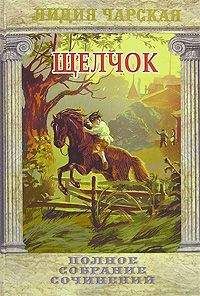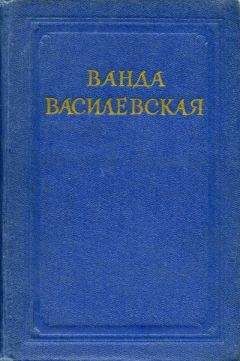Ванда Василевская - Облик дня
И все-таки это не совсем то. Пусть ты зарабатываешь гроши, на которые ни одеться, ни поесть досыта, а все же не чувствуешь себя совсем выброшенным из жизни, никому не нужным человеческим отребьем.
Но и на работе стараешься ступать осторожно, точно по колеблющейся почве трясины. Вот-вот она расступится, откроется с глухим плеском, и ты постепенно погрузишься в глубину, в жадное засасывающее болото. Так и с безработицей. Раз уж она схватит тебя в свои ужасающие когти, пропало. Потом уж ты носишь на лбу словно печать позора, не можешь подняться кверху. Раньше ты был каменщиком, металлистом, монтером, сейчас ты только безработный.
Иной раз швырнут какую-нибудь подачку. Работу в городской каменоломне. Буришь глубокие отверстия. Закладываешь взрывчатку. Бьешь молотом, отваливаешь огромные скалы. Грузишь на подводы гравий. Весь день глотаешь жесткую удушающую пыль.
А потом получка: кирпичик солдатского кофе, коричневая фасоль, кулечек муки и мыло.
Только где взять горшок, чтобы сварить эту фасоль? Где взять уголь, чтобы затопить печку? Кофе еще можно жевать сырым, но остальное?
Разве продать? Но из этой муки ничего не испечешь. Она лежала где-то на складах, сырела, сохла, сбивалась в комки, кисла. Ее можно лишь разварить в кипятке в густую, клейкую мазь. Кто даст что-нибудь за такую муку?
А от жесткой «железной» фасоли делаются рези в кишках и вздувается живот даже у самых выносливых людей. И только мыло — мойся сколько душе угодно! Мой почерневшее от голода лицо, руки, израненные об острые края камней. Но ни этой черноты, ни ран все равно не смоешь.
И бродит человек по свету, как безумный, — по огромному, пустому, враждебному свету. Тот, кто не работает, — в безнадежном отчаянии; тот, у кого есть работа, — в вечном страхе, как бы ее не потерять.
А за зеркальными витринами магазинов громоздится еда. Белые плетеные булки. Полумесяцы рогаликов. Тает на солнце желтый и розовый крем пирожных. Рдеют пласты мяса, голубоватые телячьи туши. В стеклянных бассейнах плещутся жирные карпы. В круглых жестяных коробочках свернулись, как ужи, миноги. Разложены рядами пушистые персики. Груды шоколадок в цветных обертках. Икра. Тщательно ощипанные цыплята. Глыбы масла. Грудами навалена еда за толстым зеркальным стеклом, бесстыдно лезет в голодные глаза. Пахнет сквозь стекла неведомыми ароматами, набегает в рот слюной, манит неведомым вкусом.
Струей льется радуга шелковых материй. Крепдешин и креп-монголь. «Петит реин». Шифон и велюр. Гладкий блеск, цветистые узоры. Резкие отблески тафты и мгла маркизета. Кружевная вязь, расшитые узоры, мягкие волны вуалей. Скользкое полотно, теплые складки шерсти, подстриженный мох бархата. Все это сверкает за зеркальной витриной перед глазами озябших, кутающихся в рваные лохмотья, дрожащих от холода людей.
Длинные ряды ботинок за зеркальной витриной. Змеиная и оленья кожа. Высокие и низкие каблуки, закрытые и вырезанные туфли, с острыми и с тупыми носками, коричневые, черные, белые. Шевро, лак, подошвы из буйволовой кожи. Прибитые, пришитые, приклеенные. На пуговочках, на пряжках, на шнурках. Прюнелевые, бархатные, атласные. Они презрительно поглядывают из-за зеркальных витрин на босые ноги, на вылезающие из башмаков грязные, посиневшие пальцы, на стоптанные, надетые на босу ногу калоши, на обвязанные шпагатом остатки обуви.
Высокие окна этажей смотрят вниз ящиками душистых цветов. Шевелят белыми крыльями вышитых гардин. Отражают сверкание мозаичных паркетов. Захлебываются от солнца, света и воздуха. Ослепляют блеском впалые от голода глаза.
Мир переполнен богатствами. Всего, всего хватает, всего много. Приходится вагонами сваливать в море пшеницу. Бросать в топки паровозов мешки кофе. Закапывать в землю сотни молочных коров. Жечь на кострах целые стада кудрявых овец. Потому что всего хватает, всего много, слишком много, в избытке. Мир задыхается от своего богатства — обожравшийся, сытый мир. Его донимает изжога, душит икота от излишка еды. Излишком еды рыгает он в глаза тому, кто босиком, с просвечивающим сквозь лохмотья голым телом стоит внизу.
XX
Ни с того ни с сего начинают распространяться какие-то вести.
Их передают потихоньку, шепотом, на ушко. Прикрывая рукой рот. Беззвучно, одними движениями губ.
Они лезут в глаза белыми пятнами в газетах. Прибывают в город с крестьянской подводой. С утомленным пешеходом. Их приносит торговка вместе с корзиной овощей. Разносят белые клочки бумаги. Хромой нищий. Безногий бродяга. Они шелестят тишайшим шепотом. Звучат в гомоне переулка, в закоулках дворов, в толчее рыночных площадей, во мраке киносеанса, в грохоте телеги по мостовой, в скрипе ржавого колодезного насоса. Несутся как пламя, стелются по земле, разливаются широкой волной. Их узнаешь во внезапно бледнеющих лицах, в нервном движении плечей, в склонившихся друг к другу головах, в пугливых взглядах. Они протискиваются в каждую щель, начиная с самых высоких этажей и кончая подвальными каморками. Тяжелые и душные, они наполняют собой воздух… Смолкают дети, играющие над уличными канавами, прислушиваются. Элегантные прохожие стараются незаметно проскользнуть по улице. Дрожь при звуке звонка у дверей, при шуме шагов. Пугливые взгляды через плечо. Смех, принужденный и неискренний. Не слышно громкого разговора на улицах. В подвалах, в мансардах, в смердящих нищетой комнатенках собирается народ. Приглушенные голоса. Дрожь в руках.
Никто ничего не знает. Ожидание. Мучительное и нестерпимое, дергающее нервы ожидание.
Но весть все ширится как зараза. Воздух до последнего предела заряжен электричеством. Возникают беспричинные споры, тихие, ожесточенные, из-за всякого пустяка, из-за любой мелочи. Истерические нотки в голосах женщин. Дети дома ведут себя тихо, как мышки, только бы не обратить на себя внимания. Люди забывают очистить картошку, поставить на огонь воду, затопить печку, если у кого еще есть чем затопить. Вся повседневная жизнь перевернута вверх ногами.
Из предместий, из переулков появляются какие-то оборванцы. Стыдливо таившаяся до сих пор в четырех стенах нищета выходит на главные улицы. Люди останавливаются группами, идут один за другим без цели и надобности, в какой-то непонятной тревоге. Молчаливо бродят то туда, то сюда, под мертвым взглядом человека в мундире. Дамы с детьми в колясочках поскорей сворачивают в подъезды домов, хотя ничего особенного как будто не происходит. В лавках пусто, в витринах цветочных магазинов вянут желтые и белые розы. По вечерам гаснут огни световых реклам, которые некому читать. Чернеют груды овощей на торговых площадях. Перед необновляемыми витринами магазинов — мрачные лица. Глазеют на откупоренные коробки миног, на подгнившие, покрытые пушком персики. В ресторанах длинные ряды пустых столиков. Не успевает стемнеть, как улицы пустеют, словно метлой выметенные. Глухо звучат шаги немногочисленных, запоздалых прохожих. Лишь на окраинах города, под старыми заборами, на сваленных в кучу бревнах, словно тени, группки людей. И вдруг рассыпаются, впитываются во мрак. Мгновение спустя появляются снова.
— Зоська, сбегай-ка на угол, узнай, что там.
— Антек, беги к Мачакам, расспроси, может, они что знают.
— Картошка в печке. Проголодаешься — возьми, пойду посмотрю, что слышно.
— Выгляни-ка в окно, кажется, что-то случилось.
— Какие-то люди у ворот, не орите вы, черти! Дайте послушать.
— Ну, что?
— Ну, как там?
— Что говорят?
— Ничего не слышно?
— Ну как, спрашивал?
— Был?
— Где-то поют!
— Э, приснилось тебе, ничего не слышно.
— Что это так грохочет?
— Телега едет.
— Телега ли?
У Анатоля с утра до вечера толчея. Ежеминутно скрипит дверь. Обычного шума нет. Тихо. Сидят на кровати, на столе, повсюду. Сходят в лавчонку на углу, принесут буханку хлеба, сидят, жуют. Ночуют на полу, подложив под голову шапку. А то вдруг всех точно ветром сдует, ни одного не застанешь. Вернутся красные, потные и опять вполголоса спорят, совещаются, стремительно, с горящими глазами, жестикулируют. Говори с ними, не говори — ни один не слышит. Мать вздыхает и тихонько садится в уголке у окна почитать, но буквы скачут у нее перед глазами. Она невольно напрягает слух, не донесется ли чего с улицы. Тревога не дает усидеть на месте. Прочь из дому. На лестнице соседки. Прикладывая палец к губам, оглядываясь назад, беспокойно озираясь полными ужаса глазами, вполголоса переговариваются:
— Милая вы моя!
— Господи Иисусе!
— Неужто вправду?
— Чтоб мне господа бога после кончины не увидеть!
— Ох, милые вы мои, милые вы мои, что же это творится на свете!
Невыбитые перины висят на перилах. Ведра с водой часами стоят у крана на лестнице. Ребенок в запертой квартире орет и орет, будто вот сейчас у него глотка разорвется.