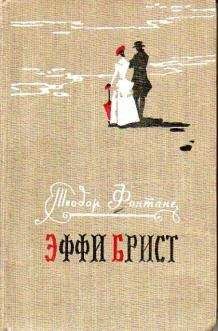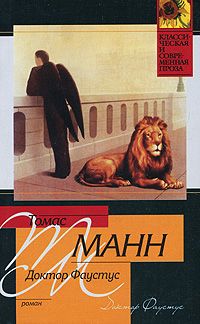Томас Манн - Доктор Фаустус
В самом деле, решительная антипатия Адриана к грубым скабрёзностям как бы налагала на них запрет, и я хорошо знал презрительно-брезгливую гримасу, появлявшуюся на его лице при малейшем намёке такого рода. В Галле, в кругу винфридцев, он находился в сравнительной безопасности от подобных посягательств на его деликатность: их предотвращала клерикальная благопристойность хотя бы в манере выражаться. О женщинах, бабёнках, девушках, любовных связях товарищи по учению между собой не говорили. Не знаю, как обстояло здесь дело у каждого из этих молодых богословов: блюли они себя для христианского брака или нет. Что касается меня самого, то я, признаться, вкусил тогда сладости жизни и в течение семи или восьми месяцев поддерживал связь с одной девушкой из простонародья, дочерью бочара, — связь, которую не так-то легко было утаить от Адриана (хотя не думаю, чтобы он её заметил) и которую я сумел затем благоприлично оборвать, ибо меня раздражал низкий уровень этой девицы и занимала она меня только в одном-единственном отношении. Не столько темперамент, сколько любопытство, тщеславие и желание испытать на практике античную вольность в вопросах пола, вытекавшую из моих теоретических убеждений, побудили меня вступить в упомянутую связь.
Но как раз этот-то элемент, элемент остроумной весёлости — так по крайней мере я, может быть несколько по-школярски, его себе рисовал — совершенно отсутствовал в отношении Адриана к сей сомнительной сфере. Я говорю здесь не о христианском воздержании и не пользуюсь условным определением «Кайзерсашерн», сочетающим обывательское морализирование с какой-то средневековой грехобоязнью. Это далеко не соответствовало бы истине и не передало бы той любовной бережности, той ненависти ко всему, что могло бы его ранить, которую внушало мне его поведение. Если Адриана вообще нельзя было, да и не хотелось представить себе в «галантной» ситуации, то причиной была броня чистоты, целомудрия, интеллектуальной гордости, холодной иронии, его защищавшая и для меня священная, хотя и своеобразно священная: я испытывал какую-то боль и тайный стыд. Ибо разве только ехидный человек не испытывает боли и стыда при мысли, что жизни во плоти чистота не дана, что инстинкт пренебрегает духовной гордостью и самое неумолимое высокомерие обязано платить дань природе, так что остаётся лишь уповать, что, щадя нас, это угодное богу низведение к человеческому, а стало быть, и к животному началу, совершится в весьма приукрашенной и возвышающей душу форме, то есть в ореоле любовной жертвенности и очистительной страсти.
Нужно ли добавлять, что в случаях, подобных Адрианову, как раз на это приходится надеяться менее всего? Прикрасы, облагораживающий ореол, о которых я говорил, — это дело души, инстанции промежуточной, посредничающей и обильно наделённой поэтическими задатками, то есть области, собственно, вполне сентиментальной, где дух и инстинкт, растворившись друг в друге, заключают некое иллюзорное перемирие; и хотя я лично, признаться, чувствую себя в ней вполне уютно, она едва ли отвечает строгому вкусу. У таких натур, как Адриан, «души» маловато. Глубоко внимательная дружба открыла мне, что самая гордая интеллектуальность непосредственно соседствует с животным началом, с голым инстинктом и наиболее жалким образом подвержена его воздействию; это и есть причина заботливой тревоги, которую такие натуры, как Адриан, взваливают на плечи людей моего склада, причина, объясняющая, почему дурацкое происшествие, описанное в его послании, показалось мне чем-то пугающе символическим.
Я словно видел, как он стоит на пороге дома радостей и, постепенно догадываясь, куда попал, глядит на выжидательно приумолкших беспутниц. Слепо и отчуждённо, как, бывало, в Галле, в ресторации Мютца — столь ясно представлял я себе эту картину, — он прошёл к пианино и взял несколько аккордов, осознать которые способен был лишь a posteriori[58]. Я видел, как курносая его ценительница — Hetaera esmeralda, с напудренными округлостями, в испанском болеро — гладит ему щёку обнажённой рукой. Неудержимо, вопреки разделявшей нас дистанции времени и пространства, меня потянуло туда. Мне хотелось оттолкнуть от него ведьму коленкой, как он отшвырнул табурет, чтобы очистить себе путь к выходу. Долго ещё чувствовал я прикосновение её руки на моей собственной щеке, думая с отвращением, с ужасом, что с тех пор это прикосновение жжёт щёку моего друга. Подчёркиваю снова: в нём, не во мне крылась причина того, что я не в силах был усмотреть в случившемся ничего весёлого. Если мне удалось дать хотя бы самое отдалённое представление о характере Адриана, то читатель вместе со мной ощутит в этом прикосновении что-то несказанно позорное, что-то унижающе презрительное и опасное.
Что он дотоле не «прикасался» к женщинам, я твёрдо знал и знаю. Но вот женщина прикоснулась к нему — и он убежал. В этом бегстве тоже не было ничего комического, могу заверить читателя, если он. в этом усомнится. Комично было это уклонение разве лишь в том горько-трагическом смысле, в каком комична всякая осечка. Я не считал, что Адриан ускользнул, да и он, конечно, очень недолго чувствовал себя ускользнувшим. Высокомерие духа болезненно столкнулось с бездушным инстинктом. Адриан не мог не вернуться туда, куда завёл его обманщик.
XVIII
Пусть читатель, знакомясь с моим рассказом, не спрашивает, откуда мне доподлинно известны те или иные частности, если я не всегда бывал их свидетелем, не всегда находился близ почившего героя этого биографического повествования. Действительно, я не раз и подолгу живал вдали от него: так было, например, во время моей годичной военной службы, по окончании которой, однако, я возобновил ученье в Лейпцигском университете и имел возможность пристально наблюдать тамошнее его бытие. Так было и во время поездки, пополнившей моё классическое образование и приходившейся на 1908 и 1909 годы. Не успели мы встретиться по моем возвращении, как он уже вознамерился покинуть Лейпциг и направиться в Южную Германию. А там наступила, пожалуй, самая длинная полоса нашей разлуки: это были годы, которые он, после краткого пребывания в Мюнхене, провёл со своим другом, силезцем Шильдкнапом, в Италии, тогда как я, пройдя испытательный срок в гимназии св. Бонифация в Кайзерсашерне, исполнял обязанности штатного её преподавателя. Лишь в 1913 году, когда Адриан поселился в верхнебаварском городке Пфейферинге, а я переехал во Фрейзинг, я снова оказался с ним рядом, чтобы впредь непрерывно или почти непрерывно, в течение семнадцати лет, вплоть до катастрофы 1930 года, наблюдать его жизнь, давно уже отмеченную печатью рока, и пристально следить за его всё более и более мятежным творчеством.
Он отнюдь не был новичком в музыке, этом кабалистически причудливом, шаловливом и одновременно строгом, изощрённом и глубокомысленном ремесле, когда в Лейпциге снова поступил под начало своего прежнего руководителя и советчика Венделя Кречмара. Его быстрые успехи в традиционно-учебной области — в композиции, в музыкальной форме, оркестровке, усугубляемые способностью схватывать всё на лету и свободные от каких бы то ни было помех, если не считать забегающего вперёд нетерпения, — доказывали, что двухлетний богословский эпизод в Галле не ослабил его приверженности к музыке и не означал настоящего с нею разрыва. Об его усердных и частых упражнениях в контрапункте упоминалось в письме. Пожалуй, ещё большее значение Кречмар придавал инструментовке и заставлял его, как прежде в Кайзерсашерне, оркестровать фортепьянные пьесы, отдельные части сонат, даже струнные квартеты, подробно разбирая, критикуя и поправляя сделанное. Он поручал ему даже оркестровку клавира отдельных актов из опер, которых Адриан не знал, и сравнение опытов ученика, слыхавшего или читавшего Берлиоза, Дебюсси, а также поздних немецко-австрийских романтиков, с оригиналами Гретри или Керубини часто доставляло наставнику и его подопечному повод посмеяться. Кречмар работал тогда над собственным сочинением для сцены «Мраморный истукан»; партитурные эскизы той или иной сцены он также давал для инструментовки своему адепту, а затем показывал, как это получилось или должно получиться у него самого, что вызывало горячие споры, в которых, как правило, побеждала, разумеется, опытность учителя, но однажды одержала верх интуиция новичка. Ибо одно сочетание звуков, поначалу отвергнутое Кречмаром как слабое и нескладное, в конце концов показалось ему более выразительным, чем его собственное решение, и при следующей встрече он заявил, что хочет воспользоваться идеей Адриана.
Тот гордился этим гораздо меньше, чем можно было бы предположить. По своим музыкальным задаткам и интересам ученик и учитель, в сущности, были довольно далеки друг другу, ведь в искусстве начинающий почти всегда должен обращаться за профессиональной выучкой к мастерству, наполовину ему чуждому хотя бы уже в силу различий между поколениями. Хорошо, если мастер всё же угадывает и понимает подспудные тенденции молодости, пусть иронизируя над ними, но остерегаясь помешать их развитию. Кречмар, например, был про себя убеждён и считал само собой разумеющимся, что своё совершеннейшее и эффективнейшее выражение музыка получает в оркестре, тогда как Адриан в это уже не верил. Для двадцатилетнего, не в пример старшим, зависимость высокоразвитой инструментальной техники от гармонической концепции была чем-то большим, нежели определённая историческая ступень, — у него это превратилось в своеобразное кредо, в котором прошлое и будущее сливаются воедино; его трезвый взгляд на гигантский послеромантический оркестр с гипертрофированным звуковым аппаратом; потребность уменьшить последний и вернуть ему ту служебную роль, которую он играл во времена догармонической, полифоничной вокальной музыки; склонность к народному многоголосью, а стало быть, к оратории — жанру, в котором творец «Откровения св. Иоанна» и «Плача доктора Фаустуса» создал впоследствии самое высокое и самое смелое своё произведение, — всё это очень рано дало себя знать в его речах и творческих устремлениях.