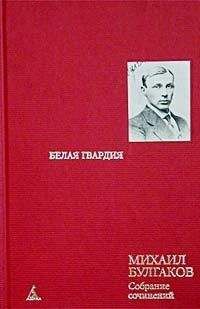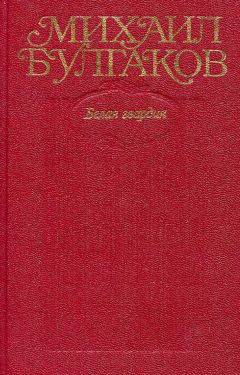Михаил Булгаков - Белая гвардия
Глубокой же ночью Рейсс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему:
— Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем… Ну, если не можете…
Он ответил:
— Нет, я пойду… только вы мне помогите…
Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал:
— Клянусь, я вам этого не забуду… Идите спать…
— Молчите, я буду вам гладить голову, — ответила она.
Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу — в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный, приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел: может быть, пять минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком случае, ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность, в огне. Когда он открыл глаза тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней…
— Наклонитесь ко мне, — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливее вглядывалась в лицо. Потом заговорила:
— Ох, какой жар у вас. Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать?..
— Не надо, — тихо ответил Турбин, — доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.
— Я так боюсь, — шептала она, — что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу. Не течет больше? Она неслышно коснулась забинтованной руки.
— Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать.
— Не пойду, — ответила она и погладила его по руке. — Жар, — повторила она.
Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела.
— Лежите и не шевелитесь, — прошептала она, — а я буду вам гладить голову.
Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном, как бы не заснуть.
И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и Городе была полная тишина. Стеклянно жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул.
Утром, около девяти часов, случайный извозчик у вымершей Мало-Провальной принял двух седоков — мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на Спуске не было. Только у подъезда №13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.
14
Они нашлись. Никто не вышел в расход, и нашлись в следующий же вечер.
«Он», — отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как Лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов… Он… Анюта обеими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор, и Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка… исчезли усы… Но глаза, даже в полутьме сеней, можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный… И меньше ростом стал…
Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли оттого, что пальто Мышлаевского обвило Анюту и очень знакомый голос шепнул:
— Здравствуйте, Анюточка… Вы простудитесь… А в кухне никого нет, Анюта?
— Никого нет, — не помня, что говорит, и тоже почему-то шепотом ответила Анюта. — «Целует, губы сладкие стали», — в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала: — Виктор Викторович… пустите… Елене…
— При чем тут Елена… — укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком, — что вы, Анюточка…
— Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят, — страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского, — у нас несчастье — Алексея Васильевича ранили…
Удав мгновенно выпустил.
— Как ранили? А Никол?!
— Никол жив-здоров, а Алексей Васильевича ранили.
Полоска света из кухни, двери.
В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала:
— Витька, ты жив… Слава богу… А вот у нас… — Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину. — Сорок у него… скверная рана…
— Мать честная, — ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок, — как же это он подвернулся?
Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками.
— Вы доктор, позвольте узнать?
— Нет, к сожалению, — ответил печальный и тусклый голос, — не доктор. Разрешите представиться: Ларион Суржанский.
Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не проникали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой, и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили — тиф, тиф… и накликали.
— Кроме раны, — сыпной тиф…
И ртутный столб на сорока и… «Юлия»… В спаленке красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотанье про лесенку и звонок «бр-рынь»…
— Здоровеньки булы, пане добродзию, — сказал Мышлаевский ядовитым шепотом и расставил ноги. Шервинский, густо-красный, косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно; белье чудное и галстук бабочкой; на ногах лакированные ботинки. «Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в кармане. — Чому ж це вы без погон?.. — продолжал Мышлаевский. — «На Владимирской развеваются русские флаги… Две дивизии сенегалов в одесском порту и сербские квартирьеры… Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части»… за ноги вашу мамашу!..
— Чего ты пристал?.. — ответил Шервинский. — Я, что ль, виноват?.. При чем здесь я?.. Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи.
— Ты — герой, — ответил Мышлаевский, — но надеюсь, что его сиятельство, главнокомандующий, успел уйти раньше…
Равно как и его светлость, пан гетман… его мать… Льщу себя надеждой, что он в безопасном месте… Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся?
— Зачем тебе?
— Вот зачем. — Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. — Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить…
Шервинский побагровел.
— Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста, — начал он, — полегче… Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, а остальные на произвол судьбы.
— Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысяча человек наших, голодные, с пулеметами… Ведь их петлюровцы, как клопов, передушат… Ты знаешь, как убили полковника Ная?.. Единственный был…
— Отстань от меня, пожалуйста!.. — не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. — Что это за тон?.. Я такой же офицер, как и ты!
— Ну, господа, бросьте, — Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским, — совершенно нелепый разговор. Что ты в самом деле лезешь к нему… Бросим, это ни к чему не ведет…
— Тише, тише, — горестно зашептал Николка, — к нему слышно…
Мышлаевский сконфузился, помялся.
— Ну, не волнуйся, баритон. Это я так… Ведь сам понимаешь…
— Довольно странно…
— Позвольте, господа, потише… — Николка насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически как будто. Как будто в ответ, что-то радостно и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса.