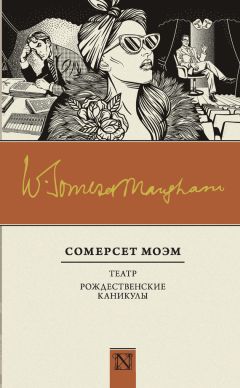Сомерсет Моэм - Рождественские каникулы
– Ну, перестаньте.
– Почему вы так добры ко мне? Я надоедная, скучная, несносная. Я вам даже и не очень-то нравлюсь, правда?
Чарли ненадолго задумался.
– Что ж, сказать по правде, не очень.
Лидия рассмеялась.
– Тогда почему вы со мной нянчитесь? Почему не выгоните меня на улицу?
– Понятия не имею.
– Сказать вам? Это все доброта. Просто-напросто самая обыкновенная дурацкая доброта.
– Идите к черту.
Они ужинали в Латинском квартале. От Чарли не ускользнуло, что как личность он Лидии не интересен. Она приняла его, как приняла бы случайного попутчика, с которым столкнешься на пароходе, поневоле как-то сблизишься, при этом вовсе неважно, откуда он взялся, что он за человек; он возник из небытия, когда ступил на борт, канет в небытие, когда, достигнув порта назначения, ним расстанешься. Чарли был достаточно скромен и не обижался, не мог же он не понимать, что слишком серьезны несчастья и заботы Лидии, они поглощают все ее внимание; поэтому он удивился, когда она навела его на разговор о нем самом. Он рассказал ей о своих художественных наклонностях и о долго лелеемой мечте стать художником и она одобрила его здравый смысл, благодаря которому он в конце концов предпочел обеспеченную жизнь делового человека. Впервые он видел ее такой веселой и непосредственной. Жизнь англичан она знала только по книгам Диккенса, Теккерея и Герберта Уэллса, и ей любопытно было услышать, как протекает жизнь в богатых благополучных домах на Бейсуоттер-Роуд, которые она видела только снаружи. Она расспрашивала Чарли о его доме и о семье. А об этом он всегда рад был поговорить. Об отце и матери он рассказывал с мягкой насмешкой, но Лидия отлично понимала, что ироническим тоном он просто прикрывает любовное восхищение родителями. Сам того не ведая, он нарисовал премилую картину счастливого любящего семейства, что живет скромно и в достатке, не тревожимое страхом за будущее, в мире с собой и со всем светом. В жизни, которую он описал, не было недостатка ни в милосердии, ни в достоинстве; была она здоровая, нормальная и благодаря интеллектуальным интересам членов семейства не вовсе заземленная; то были люди простые, честные, не тщеславные и не завистливые, готовые исполнять свой долг, как они его понимали, перед государством и перед ближними; чуждые злобы и коварства. Если Лидия и понимала, в какой мере их доброжелательство, доброта, не лишенное приятности самодовольство покоятся на давнем и упорядоченном процветании страны, где им довелось родиться, если и заподозрила хотя бы смутно, что как детей, которые строят замки на песке, их в любую минуту может смыть приливом, она и виду не подала.
– Счастливый вы народ, англичане,– сказала она.
Но Чарли был слегка удивлен тем, как отозвались в нем его собственные слова. Он рассказывал, а сам впервые в жизни видел себя со стороны, глазами слушателя. Подобно актеру, который произносит свой текст, но никогда не видит пьесу из зала и потому лишь смутно представляет, какое все это производит впечатление, Чарли играл свою роль, не задаваясь вопросом, есть ли в ней какой-то смысл. Не то чтобы ему стало неловко, но он был слегка озадачен, когда осознал, что все они – отец, мать, сестра, он сам, хоть и заняты с утра до ночи, даже не хватает дня на все, что хотелось бы сделать, однако, если посмотреть на жизнь, которую они ведут из года в год, появляется неприятное ощущение, будто никто из них вовсе ничего не делает. Словно какой-то спектакль, где и декорации хороши, и костюмы красивы, и диалоги умны, актеры опытные, искусные – приятно проводишь вечер, а уже через неделю ничего не можешь вспомнить.
После ужина Чарли и Лидия сели в такси и поехали кино на другом берегу Сены. То был фильм братьев Маркс, и они покатывались со смеху над немыслимыми выходками изумительных комиков; но они хохотали не только над остротами Граучо и презабавными переплетами, в которые попадал Харпо, хохотали и над тем, как хохотал другой. Фильм кончился в полночь, но Чарли, слишком взбудораженный, просто не мог сейчас спокойно улечься спать и спросил Лидию, не пойдет ли она с ним куда-нибудь потанцевать.
– Куда бы вам хотелось пойти? – спросила Лидия.– На Монмартр?
– Куда хотите, только чтоб было весело.– А потом, вспомнив вечное, но редко осуществимое желание родителей, когда они бывают в Париже, прибавил: – Где поменьше англичан.
Лидий глянула на него с лукавой улыбкой, которую он раза два уже видел. Ему и удивительно это было, и мило. Удивительно, потому что в его представлении совсем не вязалось с ее натурой, а мило, потому что несмотря на трагическую судьбу Лидии как бы подсказывало, что есть в ней и веселость, и славное задиристое озорство.
– Поведу вас в одно местечко. Там, может, и не весело, зато, должно быть, интересно. Там поет одна русская.
Путь был долгий, и когда автомобиль остановился, Чарли увидел, что они на набережной. На фоне морозной звездной ночи четко вырисовывались башни-близнецы Собора Парижской богоматери. Чарли с Лидией сделали несколько шагов по темной улице, потом прошли в узкую дверь, спустились на один пролет по лестнице и, к удивлению Чарли, оказались в просторном подвале с каменными стенами; от стен отходили довольно большие деревянные столы, за каждым могли поместиться человек двенадцать, а по обе стороны стояли деревянные скамьи. Было жарко, душно, воздух –серый от дыма. Посередине меж столов теснились пары, танцевали под какую-то заунывную мелодию. Неряшливого вида официант без пиджака нашел им два места и принял заказ. Сидящие за столами с любопытством поглядывали на них и перешептывались; и конечно же, Чарли в английском костюме синей саржи и Лидия в черном шелковом платье и в элегантной шляпке с пером резко отличались от всех присутствующих. Мужчины, без воротничков и галстуков танцевали в кепках, зажав в зубах сигарету. Женщины были без шляп и вызывающе накрашены.
– Вид у них прямо бандитский,– сказал Чарли.
– Они такие и есть. Большинство уже побывало за решеткой, а остальным этого не миновать. Если начнется ссора и они станут швырять стаканы или повынимают ножи, просто прислонитесь спиной к стене и не шевелитесь
– Похоже, мы им не очень-то по вкусу,– сказал Чарли.– Мне кажется, мы слишком привлекаем внимание.
– Они думают, мы любопытствующие туристы, а подобную публику они не выносят. Но все обойдется. Я знакома с patron (хозяин, владелец заведения – фр.).
Когда официант принес заказанные два пива, Лидия попросила его позвать хозяина. Тот мигом явился, крупный толстяк, по виду точь-в-точь священник, и сразу узнал Лидию. Он проницательно и недоверчиво глянул на Чарли, но Лидия представила его как своего друга, и хозяин сердечно пожал ему руку и сказал, мол, рад познакомиться. Он подсел к их столику и несколько минут вполголоса о чем-то разговаривал с Лидией. Чарли заметил, что соседи наблюдают за этой сценой, и увидел, как один из них подмигнул другому. Они явно поняли, что все в порядке. Танец кончился, и те, кто прежде сидел за этим столом, вернулись. Они враждебно оглядели незнакомую парочку, но хозяин объяснил, что это свои, и тогда один из компании – темная личность со шрамом на физиономии, видно, когда-то полоснули бритвой – настоял, чтобы они выпили с ним по стаканчику. Скоро все уже весело болтали. Им явно хотелось, чтобы молодой англичанин чувствовал себя как дома, и парень, сидящий с ним рядом, толковал ему, что хотя на вид компания грубоватая, неотесанная, но все они ребята что надо и сердце у них на месте. Был он изрядно под хмельком. Чарли справился с охватившим его поначалу беспокойством.
Вскоре встал саксофонист и выдвинул вперед стул. С гитарой в руках вышла русская певица, о которой говорила Лидия, и села. Раздался взрыв рукоплесканий.
– C'est La Marishka (это Маришка – фр.),– сообщил Чарли его хмельной приятель.– Другой такой на свете нету. Она была любовницей одного комиссара, но Сталин велел его расстрелять, и если бы она не сумела сбежать из России, он бы и ее велел расстрелять.
Женщина, сидящая по другую сторону стола, услышала его слова.
– Что за вздор ты несешь, Лулу,– крикнула она.– La Marishka до революции была любовницей великого князя, это все знают, у нее на мильоны было бриллиантов, а большевики все у ней отобрали. Она переоделась крестьянкой и сбежала.
Маришка была женщиной лет сорока, худая, мрачная, черты лица суровые, мужские, смуглая кожа и огромные горящие глаза под черными, густыми, круто изогнутыми бровями. Хриплым голосом во всю мощь легких она спела раздольную печальную песню, и хотя Чарли не понял ни единого русского слова, его пробрала дрожь. Певице громко хлопали. Потом она спела по-французски сентиментальную балладу – плач девушки по возлюбленному, которого наутро ждет казнь, чем привела слушателей в неистовый восторг. Напоследок она спела еще одну русскую песню, на сей раз веселую, и облик ее уже не казался трагическим; теперь лицо ее дышало грубым, необузданным весельем и в голосе сильном, резком звучало удальство; слушаешь, и кровь играет в жилах, и радуешься, но и сердце щемит оттого, что за бесшабашным ликованьем таится отчаяние напрасных слез. Чарли посмотрел на Лидию и поймал ее усмешливый взгляд. Он добродушно улыбнулся. Эта суровая женщина извлекала из музыки что-то, что, как он теперь понимал, было ему недоступно. Песня кончилась, опять раздался взрыв рукоплесканий, но Маришка будто и не слышала, встала и направилась к Лидии. Они заговорили по-русски. Лидия повернулась к Чарли.