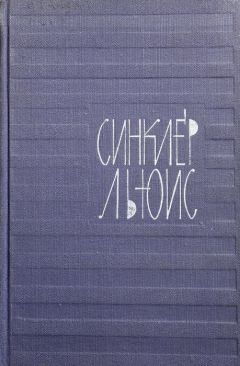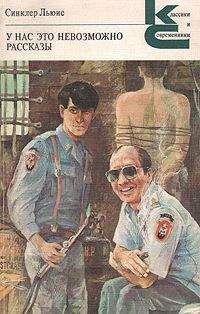Льюис Синклер - Энн Виккерс
Неужели она только в том и уверена, что ни в чем не может быть твердо уверена, как бывало в прежние, счастливые дни? И неужели для нее в грамматике обществознания все победоносные «следовательно» навсегда уступили место всяким «но»?
Однако очень скоро она бросила размышлять обо всем этом, увлекшись наркотическим детективным романом, который ей посоветовала прочесть доктор Уормсер.
Все это время, опасаясь грозившего ей позора, Энн думала исключительно о себе. Ни у нее, ни у трезво смотрящей на вещи Тесси Кац не хватало воображения на то, чтобы задуматься над правами будущего ребенка. Теперь же, как ни странно, нерожденный ребенок стал для Энн чем-то реальным, и она непрерывно думала о нем, сначала с грустью, а потом с неистовой одержимостью, обвиняя себя в убийстве. Ребенок сделался самостоятельным существом. Она тосковала по нему так, словно уже нянчила его, ощущала его теплое тельце. Он стал для нее желаннее всякой карьеры или торжества самого прекрасного принципа.
Это была бы девочка. Откуда она знала? Да просто знала, и все! Мать всегда это знает! Инстинкт! Нечто, выходящее за пределы кухни науки. И хорошо, что девочка! Ибо грядущее принадлежит женщинам! «Посмотрим (прикидывала Энн): если бы девочка родилась в начале 1918 года, в 1958 году ей было бы всего сорок лет. К этому времени мир, может быть, станет единым государством, а, может быть, будет целиком коммунистическим или же опять распадется на мелкие воюющие между собой монархии. Геликоптеры могут стать таким же обычным средством передвижения, как сейчас автомобили, а могут и исчезнуть совсем среди обломков мертвой цивилизации. Что бы ни случилось, ее девочка увидит… нет! — вздохнула Энн, — увидела бы… столько головокружительных перемен за сорок лет, сколько не бывало прежде за два столетия».
Девочка приобретала конкретный облик. У нее были бы черные волосы, как у дедушки Виккерса. (Энн отказывалась приписать эту честь Лейфу.) Энн позаботилась бы, чтобы девочка была здоровой и крепкой. Прежде всего она воспитала бы в ней характер — сильный и цельный. Она научила бы ее не бояться физического труда: в мире, где профессиональные касты, вероятно, исчезнут вместе с частной собственностью и сословностью, ей не будет стыдно перед честными тружениками — прачками и кухарками, плотниками и слесарями.
Столько радости доставило бы ей воспитание малютки!..
И тут она с ужасом вспомнила, что убила свою девочку. Ей не придется ее воспитывать.
Ее груди тосковали по ребенку. Все ее существо томилось по тому бессмертию, которое дают дети.
Она назвала бы дочь… в последнее время девочкам дают такие бессмысленные имена: Энн, Дороти, Луиза, Гертруда, Бетти. Полтораста лет назад имена всегда что — нибудь значили: такие любезные богу символы, как Вера, Надежда, Терпение, Милосердие. Но скучная надежда, тупое терпение, вера с глупо разинутым ртом теперь уже не единственные женские добродетели. Нет, ее дочь будет носить имя Гордость — Прайд Виккерс. Гордость от сознания, что она живет, что она любит, трудится, гордость от сознания, что она женщина, — вот ее будущие достоинства. Прайд Виккерс-единственный человек, до конца близкий и понятный Энн!
Энн не была склонна к мистицизму. Наоборот, она даже считала себя слишком рассудочной. И тем не менее с этих пор, помимо ее сознания, Прайд Виккерс стала для нее таким же реальным ребенком, как любой из итальянских ребятишек, играющих перед Корлиз-Хук. Энн убедила себя, не отдавая себе в этом отчета, будто Прайд не уничтожена, а только отложила свое появление, и что в следующий раз это будет Прайд и только Прайд.
Голос Прайд она слышала не часто, но всегда помнила его по возвращении в тот мир, где она была деловой мисс Виккерс, с которой никак не вязалось простонародное выражение «погубленная», которую нельзя было заподозрить в мистицизме, которая ни на секунду не могла усомниться в том, что стоит только ознакомить детей иммигрантов с Шекспиром и шведской гимнастикой, научить их плести корзины и салютовать флагу, как немедленно возникнет разумный строй.
Месяца через два после ее возвращения в Корлиз — Хук русско-еврейский квартал был взбудоражен известием о социалистической революции, и Энн задавала себе вопрос: а не было ли суждено Прайд запомнить 7 ноября 1917 года как величайшую дату в истории человечества — то ли конец доброго старого мира, то ли начало нового?
ГЛАВА XIX
Когда Энн вошла в квартиру под самой крышей, где жила Элеонора Кревкёр со своим временным супругом, она застала их за ссорой. Элеонора размахивала руками, Джордж Юбенк сидел, упрямо глядя в сторону:
— Нет, ты послушай, Энн! Видала я дураков, но таких! Ты только послушай! Не сегодня-завтра Джордж будет призван на военную службу. Если бы мы поженились и я бросила бы работу, то, имея на руках жену, которую он должен содержать, он наверняка сумел бы вывернуться. А он не соглашается. Нет, этот осел утверждает, будто хочет на мне жениться — попробовал бы он сказать что-нибудь другое! — и готов содержать меня. Но хлопотать об освобождении он, видите ли, не будет.
— Я считаю, что каждый должен выполнить свой долг. Пахарь, взявшись за плуг, не оставляет его, пока не вспашет все поле. Так должны поступать и мы. Во всяком случае, это — мое мнение, — сказал кроткий вояка.
— Но ты хочешь на мне жениться или нет?
— Черт, ты сама знаешь, что хочу. Ведь я уже брал в прошлом году разрешение на брак!
— Ну, а вот я не желаю! Чего ради я буду выходить замуж за человека, который собирается впутаться в войну, не имеющую к нему никакого отношения!
Нет, Энн, наша Секира была права: из всех животных только женщины, кошки и слоны наделены здравым смыслом.
Но Джордж все-таки ушел на войну, и Элеонора, отказавшаяся даже в трогательную минуту прощания выйти за него замуж, теперь, охваченная страхом одиночества, искала спасения у Энн.
Хотя благотворительность была профессией Энн, она никогда не чувствовала склонности к ханжескому вмешательству в чужие дела. Энн не любила спасать души, предписывать людям диету и следить, каких друзей они себе выбирают. Но теперь ей поневоле пришлось превратиться в хлопотливую наседку. Элеонора звонила ей по три раза в неделю — не пойдет ли она с ней в театр, не забежит ли к ней поужинать и выпить коктейль?
Энн знакомилась с интеллектуальными паразитами, которые посещали Элеонору, как посещали любой нью-йоркский дом, где могли бесплатно выпить. Прожив два года в Нью-Йорке, Энн так же мало знала столичную богему, обитателей Гринвич-Вилледж,[103] как и в пору своей жизни в Уобенеки. Она не была знакома с этими людьми даже по книгам. Для нее развлекательной литературой была статья об «Ассимиляции латышских элементов на юго-востоке Арканзаса». Теперь же она встречала их всех: сочинявших стихи редакторов торговых журналов; хозяек кафе-кондитерских — нимфоманок и анархисток; поэтов, воспевавших бродячую жизнь и бродяжничавших в основном по итальянским ресторанам на Вашингтон-сквер; репортеров, вечно слонявшихся без работы оттого, что заведующие отделом городских новостей завидовали их стилю; дочерей крупных банкиров, которые мечтали заниматься живописью, но с величайшей охотой давали выход своим художественным стремлениям в постели. Энн приобрела пятьдесят новых знакомых, которые называли ее по имени и целовали взасос — мужчины и женщины, — приводя ее в бешенство, так как она терпеть не могла, когда ее лапали. Все они были такими противниками войны, что она стала патриоткой; до того лишены предрассудков, что она сделалась пуританкой; так очумели от пьянства, что она перестала получать удовольствие от хорошего вина и превратилась в угрюмую трезвенницу. Ей доставляли на редкость мало радости шумные сборища, во время которых нечистоплотные юнцы и девицы сидели друг у друга на коленях или, лежа на полу и поглаживая ее щиколотки, сообщали ей подробности о деятельности своих желез внутренней секреции. В этот месяц она извела полосканий для рта и ароматической соли для ванны вдвое больше, чем обычно. Однако она продолжала посещать эти вечеринки, так как искренне тревожилась за Элеонору.
Она любила Элеонору. Она помнила, как та приготовляла какао и сражалась с полицейскими, мыла кухонную раковину в Особняке Фэннинга и цитировала Краффта-Эббинга, рассказывала скандальные легенды о сомнительной непорочности Мейми Богардес, проходила три мили во время бурана, чтобы выступить на каком-нибудь несчастном суфражистском митинге, и шокировала Мэгги О Мара непристойностями, сохраняя при этом вид анемичной французской принцессы.
Энн понимала, что после отъезда Джорджа Элеонора успела сменить десяток любовников. А как раз сейчас, по мере того как росло презрение Энн к Лейфу Резнику и уважение к Мальвине Уормсер, она все больше убеждала себя, что ненавидит всех мужчин и в рядах ангельских существ женского пола сражается против угнетателей-мужчин. Особенно она не выносила любезных и услужливых друзей дома, которые охотно пользовались любовью Элеоноры, а заодно и даровым джином: дряхлого драматурга со сластолюбивыми пальцами, который так искусно пересказывал последние клубные сплетни и анекдоты, что даже казался умным; путешественника, читавшего лекции по двадцать три месяца на каждый месяц своих странствий и любившего выразительно описывать оригинальные брачные обычаи туземных племен; милого, нежного, всегда готового помочь профессионально «молодого человека», который в течение двадцати пяти лет оставался одним из самых обещающих молодых писателей и самым надежным из незваных гостей. Энн не сразу поверила, что эти бездельники могли быть любовниками Элеоноры. Живя с Джорджем Юбенком, Элеонора была образцовой женой. Теперь же она меняла любовника каждую неделю. Она не откровенничала с Энн, считая ее хорошим товарищем, но немного святошей. О Лейфе и аборте она даже не подозревала и потому относилась к Энн весьма покровительственно. Энн с гадливостью вспоминала весенние собачьи свадьбы. Элеонора то и дело, под предлогом смешивания коктейлей, удалялась на кухню с очередным нежным и внимательным кавалером и оставалась там минут пятнадцать. Обедая с Энн в Бреворте, она то и дело вскакивала из-за стола и бегала звонить каким-то анонимным личностям. И все-таки Энн упорно не желала вмешиваться и доискиваться, почему Элеонора делается все более нервной, все более болтливой и пустой, почему ее запавшие глаза становятся старыми.