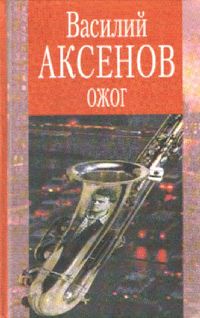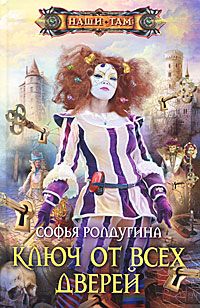Василий Аксенов - Ожог
Алик зарычал и сильно заскрипел своими крупными зубами. Соседка, у которой уже появилось к ветерану некое подобие родственного чувства, деловито закричала:
– Двойного кофе Неяркому и таблетку аспирина! Однако рычание оборвалось без всякого аспирина. Не-
яркий встал во весь свой приличный рост и на глазах всей «Ореанды» уперся в стеклянную стену тоскующими руками.
– Где вы, друзья мои милые? Где голуби мира и весны? Где мудрецы и поэты? – завел он жалобным голосом на манер плача Ярославны. – Где тройка Неяркого? Академик мой бескомпромиссный! Тандержетик мой, вислые уши, вэа ар ю? Бессонница и паруса, пока плывем до середины, мы обгоняем чудеса, когда сосем из горловины… Эх, сгубила хлопцев тоталитарная система!
Посетители «Ореанды» были потрясены этой вдохновенной импровизацией, а один заезжий лабух даже подыграл Неяркому на флюгель-горне.
Слезы стекали по впалым щекам центуриона, а рука его уже ощупывала железный стульчик – назревал новый взрыв.
Как вдруг сильный порыв ветра распахнул дверь «Ореанды», и все увидели за ней темно-зеленое ночное небо с чистенькой звездочкой в глубине. Затем в дверь, словно голуби-вестники, влетели три розовых десятки, а вслед за ними в кафе проскользнули двое в черных шелковых масках, он и она, легкая и неприличная парочка, вне всякого сомнения, только что вылезшая из постели.
Вошедшие заколебались в центре зала. Свободных мест, конечно же, не было, и они колебались, обнявшись, довольно долго, но не просто так, а как бы в ритме допотопного аргентинского танго. Червонцы между тем деловито кружили над ними, подгоняемые лопастями фена.
Она была юной грацией, о чем свидетельствовали нежный подбородок под нижним краем маски, яблочные грудки и гибкий стан, очерченный макси-платьем романтического стиля.
– Что за девка? Почему не знаю? – спросил присутствующий в кафе кинорежиссер Калитта, джинсовый молодой человек в затемненных очках, у своего администратора, одутловатого синещекого волосатого Крайского, по прозвищу Мамин Свитер. – Такую надо снимать, снимать и еще раз снимать!
– А вдруг у нее носа нет? – осторожно хихикнул Мамин Свитер.
Мужчина в маске был не юн, небрит, нетрезв и небогат, о чем свидетельствовали хотя бы трехрублевые белые тапочки, правда совсем новые. Но было в нем нечто таинственное, это был, конечно же, некий «таинственный в ночи», об этом говорило хотя бы его платье, только что выстиранное и еще не высохшее, слегка дымившееся.
«Ах, какой! – подумали все без исключения дамы в кафе. – Ах, какой, какой, какой!»
Прекратив наконец колебания, парочка направилась к разгромленному Неярким столу и присела там, среди луж и осколков стекла. Посидев несколько секунд в скованных позах, маски вдруг сблизились и поцеловали друг друга в ротовые отверстия.
Изумление было всеобщим и молчаливым, лишь Калитта слегка поаплодировал, тогда как Алик Неяркий стал медленно приближаться, держа на отлете стул за железную ногу. Все замерли в ожидании неприятной, но интересной развязки.
Бомбардир начал издалека:
– Когда меня спрашивают, кто твой любимый писатель, я отвечаю – Жизнь! Когда меня спрашивают, что я ненавижу, я отвечаю – войну, лицемерие, капитулянтство!
Он облокотился одной рукой о стол, а другой покручивал свое грозное оружие.
– Правильно, товарищ Неяркий! – вдруг оживилась буфетчица Шура, которая сегодня с утра все помалкивала, потрясенная покупкой «Камуса». – У нас тут не бал-маскарад! Таких учить надо, таких вот, в масках!
Затем произошло неожиданное. Неяркий отбросил стульчик и раскрыл объятия.
– Пантюха! Генаха! Самсоша! Арька! Радик! Нашелся! Где ж ты пропадал, сучонок? Где ж ты потерялся?
Человек в маске обнял бомбардира и быстро заговорил; речь его была похожа на стремительное, но шаткое скольжение новичка по трассе слалома, того и гляди переломает себе руки и ноги:
– В пельменной, Ян! Мы потеряли друг друга в пельменной! Я отправился за бульоном и внезапно попал в сумрак таинственной ночи. Я путешествовал по этой ночи один вдоль и поперек, таинственный в таинственной ночи, пока не встретил эту юную особу голубых кровей. Как ты поживаешь, Ян? Поцелуй теперь свою сестрицу, дружище! Она выстирала мне все – штаны, свитер и даже трусы, можешь себе представить, камрад? Пожалей ее, Ян! Я жалел ее изо всех сил. Да ведь как же не пожалеть юную особу голубых кровей, которая путешествует по дикой стране без стражи?
Алика долго не надо было упрашивать, он обхватил «юную особу» снизу за милые ягодицы и притиснул к себе, жарко дыша.
– Спокойно, кисонька, я – по-братски.
– Брат, его нужно спасать, – зашептала юная грация с восторженным необязательным отчаянием. – Брат, мой возлюбленный – пропащий человек. Быть может, только мне удастся его спасти…
– Сама ты, чувиха, пропащий человек! Мы с Академиком в полном порядке! Сейчас сядем за чистый стол и будем ждать нашего третьего друга, американского профессора кислых щей. Эй, люди, дайте нам столик, чтоб чистый был, как хоккей!
Чистый стол, конечно, был им быстро предоставлен, и они сели за него в важном молчании. Девушка вырезала Неяркому маску из интуристовской салфетки. Молчаливая замаскированная троица полностью отключилась от жизни интеллектуального кафе, хотя и напоминала всем присутствующим о близости пугающих инфернальных сил.
Вскоре, однако, за окнами «Ореанды» загрохотали ржавые танковые гусеницы, и на набережную, круша вазы и статуи, выехал странный поезд: три устаревших бронетранспортера, полные детей и цветов, таксомотор «Волга», набитый какой-то безобразно горланящей пьянью, и газик-вездеход, так называемый «иван-виллис», в котором стояли, приветствуя публику, заслуженный генерал-майор, с победоносными закруглениями своего несвежего лица, и долговязый хиппи в генерал-майорской фуражке.
Дети бросали из бронетранспортеров на зашарканный асфальт пряную горную флору и пели чудную песню «Все люди – братья, обниму китайца, привет Мао Цзэдуну передам». В толпе у многих наворачивались слезы: игра «Зарница» финиширует!
– Дядя Паша! Дядя Паша! – загалдели юные воины, адресуясь к хиппи. – Давайте теперь еще одну песню разучим! Вы обещали!
Всем понравилась покладистость «дяди Паши», он тут же вылез на капот «козла» и запел, активно помогая себе генеральской фуражкой:
Старинную историю
Мне передал отец
Про губки леди Глории
И про ее чепец,
Ах, про ее батистовый и кружевной чепец!
– Ах, про ее батистовый и кружевной чепец! – подхватили дети.
Однажды к леди Глории
Зашел Гастон-кузнец,
И вскоре у истории
Увидим мы конец,
Ах, этот чепчик розовый пришелся на конец!
– Ах, этот чепчик розовый пришелся на конец! – грянули хором дети.
Я спел про леди Глорию
Но я не жду похвал,
Ведь всю эту историю
Нам Чосер рассказал,
Ах, старый Джефри Чосер, он никогда не врал!
– Ах, старый Джефри Чосер, он никогда не врал! – ликуя, спели дети.
– Ах, старый Джефри Чосер, он никогда не врал! – ликуя, спела вся набережная: сталелитейщики и мастера высоких урожаев, милиция и военнослужащие, бляди, рыбаки и интуристы, бляди, фарцонники и дружинщики, циркош-ники и киночи, бюроканы и наркомраты, аптеканты, и спе-куляры, и бляди.
Неистовый всеобщий восторг, братское единение охватили вдруг набережную города-курорта, а шельмоватый простак-хиппи по имени дядя Паша запустил себе обе руки за пазуху и выбросил целый ворох новеньких десяток, розовых, как парная телятина.
хмель бушевал в наших мозгах розовый хмель
МИДЕОТЕРРАНО
подобный пене острова Крит хмель закручивал наши шаги по чутким коридорам Ореанды и мы низвергались с мраморных лестниц и совершали пируэты на кафельных полах и врывались в табуны танца шейк и в бесконечные сортиры с сотнями писсуаров протянувшихся вдоль неподвижного моря словно строй римских легионеров
хмель бешенным глиссером заносил нас в подкову гавани Сплита на полированные булыжники Диоклетианова града и в гости к нимфе Калипсо на ее древние и вечно желанные холмы в библейские долины и романские города под шелестящими лаврами
и мы метались на дне кипарисового колодца под чистым темно-зеленым небом между статуями корифеев средиземноморской цивилизации и захлебывались в эту нашу быть может
последнюю юную ночь
захлебываясь в этой ночи
захлебываясь в алкоголе
в горячем токе крови
в поцелуях
Генерал-майор Чувиков сквозь дивное головокружение, похожее на поток винегрета, увидел вдруг себя на ресторанной эстраде. Вокруг валялись инструменты и пюпитры. Лабухи скорчились там и сям в безжизненных позах, один лишь «дядя Паша», с обморочным лицом, поглаживал щеточками медные тарелки в такт уничтоженной мелодии «Марш святых».