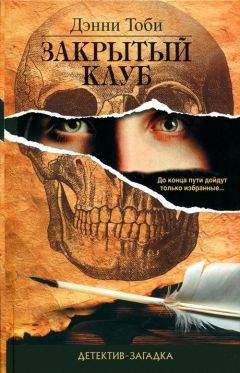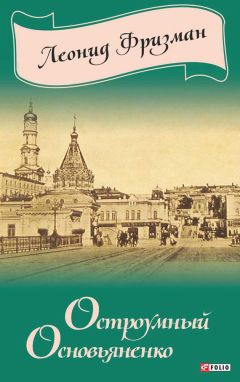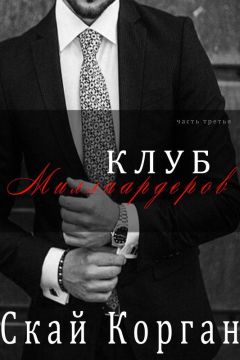Эдгар По - Т. 4. Рассказы, не входившие в прижизненные сборники
Этот день, наконец, настал; то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до «часу дня» ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель Б. и спросил Толбота.
— Нету, — ответил слуга — собственный лакей Толбота.
— Нету? — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов, — Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Как это нету?
— Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же как позавтракал, уехал в С. — и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.
Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, it fanatico, совершенно позабыл о своем обещании — позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все — а многие и в лицо, — но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.
— Клянусь, вот и она! — вскричал один из приятелей.
— Изумительна, хороша! — воскликнул второй.
— Сущий ангел! — промолвил третий.
Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда с нею в ложе.
— Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит, — заметил тот из троих, кто заговорил первым.
— Да, поразительно, — сказал второй, — до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад, в Париже. Все еще хороша — не правда ли, Фруассар, то бишь, Симпсон?
— Все еще? — переспросил я; почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей она все равно, что свечка рядом с вечерней звездой — или светлячок по сравнению с Антаресом.
— Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.
На этом мы расстались; а один из трио принялся мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:
Ninon, Ninon, Ninon a bas —
A bas Ninon De L'Enclos![88]
Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигавшую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того — осчастливила ангельскою улыбкою, ясно говорившей, что я узнан.
Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений и, наконец, в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о Толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное «еще не приезжал».
Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд — парижанка, недавно приехала из Парижа — она могла ведь и уехать обратно — уехать до возвращения Толбота — а тогда будет потеряна для меня навеки. Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я последовал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства.
Я писал свободно, смело — словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл — даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах — о своих немалых средствах — и предложением руки и сердца.
Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.
Да, пришел. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд — от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза — ее чудесные глаза — не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась честного голоса природы — щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она не отвергла мое предложение. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:
«Мсье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его contree. [89]Я приехал недавно и не был еще случай его etudier. [90]
С эта извинения, я скажу, belas! [91]Мсье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? Helas! Я уже слишком много сказать.
Эжени Лаланд».
Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот все еще не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела — но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее — умерить мой пыл — читать успокоительные книги — не пить ничего крепче рейнвейна — и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено все тем же слугой со следующей карандашной надписью — негодяй уехал к своему господину:
«Уехали вчера из С. а куда и надолго ли не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши Вашу руку, потому что Вам всегда спешно.
Ваш покорный слуга
Стаббс».
Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу, — но от гнева было мало пользы, а от жалоб — ни малейшего утешения.
Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же, после обмена письмами что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумерках теплого летнего дня я дождался случая и подошел к ней.
Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия обворожительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.
Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умолял ее согласиться на немедленный брак.
Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях — об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и теперь нам не удастся скрыть, когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы неприлично поспешным — неудобным — outre. [92] Все это она высказала с очаровательной naivete, [93] которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением — вспышкой — минутной фантазией — непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока она говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас — и вдруг, нежным пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.