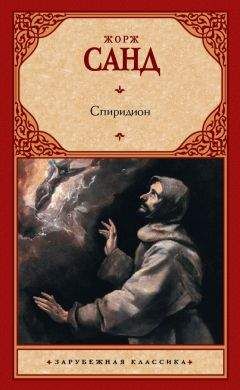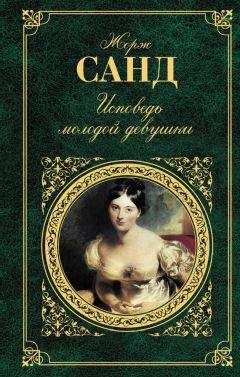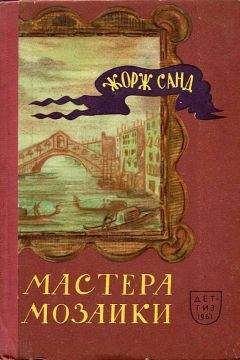Жорж Санд - Спиридион
Так говорил он, а морской ветер раздувал его длинные темные волосы. Не стану и пытаться передать тебе силу и сжатость его речей; мне это не удастся; в памяти моей осталась лишь суть его идей, а перед глазами у меня долго стояло его лицо. Я проводил его; я доплыл с ним в лодке до борта корабля. Когда настал час прощания, он с силой пожал мне руку и спросил:
– Что же, поедемте с нами?
Сердце мое дрогнуло в ту минуту и забилось так сильно, словно хотело выскочить из груди; оно звало меня последовать за этим юношей, чья энергия тронула неведомые струны моей души. Однако в то же самое время другая, непостижная сторона характера корсиканца приводила меня в ужас, и я выпустил белую его руку, холодную, как мрамор. С вершины прибрежных скал я долго следил глазами за кораблем и видел своего нового знакомца на верхней палубе: он рассматривал в бинокль морские рифы; обо мне он тотчас забыл. Когда корабль исчез за горизонтом, я пожалел, что не сообразил спросить имя корсиканца.
И вот я остался в одиночестве; казалось, будто на моих глазах погас последний луч солнца и я погрузился в вечную тьму. Сердце мое сжалось; хотя стоял белый день и солнце палило немилосердно, для меня свет померк. Тут-то пришли мне на память слова из моего сна, и в порыве отчаяния я произнес их вслух:
– То, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу!
Остаток дня я пребывал в величайшем волнении. Пока путешественники уговаривали меня последовать за ними, я не сомневался, что, отвергая их советы, поступаю правильно; теперь же, когда они уплыли навсегда, мне стало казаться, что отказ мой продиктован не мудростью, но трусостью. Я был подавлен, я пребывал во власти сомнений; свет вокруг меня померк, черная сутана тяготила, словно свинцовый колпак; я опротивел самому себе. Из последних сил добрался я до своего камышового ложа и заснул, мечтая никогда не просыпаться.
Впервые за двенадцать лет я увидел во сне аббата Спиридиона. Мне снилось, что он вошел в пустынь, миновал мирно спящего отшельника и спокойно уселся подле меня. Я различал его нечетко, но знал, что вижу и слышу именно его; я узнавал его голос, тот же самый, что и в предыдущих снах, хотя не слышал его уже много лет. Он говорил со мной долго, страстно, и речи его взволновали меня. Проснувшись, я не мог вспомнить ни единого слова, однако мне было ясно, что Спиридион в чем-то упрекал меня, и весь день я томился, словно ребенок, застигнутый врасплох и не сознающий тяжести своего прегрешения. Мысль о Спиридионе не покидала меня, да я и не думал ее прогонять; прежде я опасался, как бы она не оказалась предвестием душевной болезни, теперь же был готов потерять разум при условии, что безумие мое будет не буйным; при моей склонности к меланхолии тихое помрачение ума казалось мне куда привлекательнее трезвого отчаяния.
Следующей ночью тот же сон повторился; и в третью ночь Спиридион снова пришел ко мне. Я перестал задаваться вопросом, следует ли считать его посещение результатом мании, завладевшей смятенным разумом, или же сношения между душами живых и мертвых в самом деле возможны. Если не ум, то сердце мое пребывало в покое, ибо с некоторых пор я посвящал все свое время делам милосердия. Я больше не стремился сделаться более просвещенным и более сведущим, теперь мне хотелось стать более честным и более справедливым. Итак, я положился на судьбу. Последняя жертва моя, как ни дорого она мне далась, принесла свои плоды: я уверился в том, что поступил правильно. Не знаю, осуждала ли тень, навещавшая меня с таким постоянством, мои сомнения; главное, что я больше не боялся ее; навсегда порвав с живыми, я почувствовал в себе довольно силы, чтобы пренебречь мнением мертвых.
На четвертый день стало известно, что церковное начальство велит мне возвратиться в монастырь. До епископа дошли слухи о моем общении с путешественниками, которые попали в наши края так неожиданно, что ускользнули от его надзора. Высшее духовенство опасалось, как бы я не установил тайных связей с местными мятежниками или с неблагонадежными иностранцами; мне предписывали немедленно вернуться на прежнее место. Я покорился этому приказу с полнейшим безразличием. Тронули меня только сожаления доброго отшельника. Правда, почтение к воле начальства не позволило ему воспротивиться моему уходу или высказать свое недовольство, однако, увидев, что я вот-вот скроюсь среди деревьев, он окликнул меня, обнял, а затем оттолкнул и быстрым шагом направился в свою молельню. Тогда я в свой черед бросился за ним и, впервые за долгие годы преклонив колени перед человеком, да притом перед священником, испросил у него благословения. Мы простились навеки; следующей зимой он умер; ему шел девяностый год, и он был человеком слишком безвестным, чтобы в Риме удосужились причислить его к лику святых. Меж тем мало кто из христиан был этого так достоин. Окрестные крестьяне разрезали на мелкие кусочки его грубое монашеское одеяние и до сих пор носят эти лоскутки ткани у себя на груди вместо ладанок. Контрабандисты, всегда находившие приют в его пустыни, заказали в приходской церкви великолепную службу за упокой его души.
Я расстался с отшельником около полудня и берегом моря направился в монастырь; я избрал самую длинную дорогу, ибо знал, что наслаждаюсь свободой в последний раз в жизни; плечи мои сгибались под тяжестью прожитых лет, а сердце щемила печаль.
День выдался жаркий; на солнечных склонах скал было уже заметно наступление весны. Дорогу, которою я шел, проложили не люди; ее отвоевали у камней морские волны, и борьба этих двух стихий еще не пришла к концу, о чем свидетельствовали тысячи неровностей почвы. После двухчасового пути под раскаленным солнцем я, выбившись из сил, присел отдохнуть на черном гранитном валуне, омываемом белыми пенистыми волнами. Дикий этот уголок полнился мрачным рокотом моря. Старая полуразрушенная башня, приют буревестников и чаек, грозила обрушиться мне на голову. Камни ее, изъеденные соленой водой, цветом и шероховатостью, не отличались от соседних утесов, так что создание рук человеческих почти полностью сливалось с созданиями природы. Я сравнивал себя с этим покинутым обиталищем, постепенно разрушаемым бурями, и задавался вопросом, обязан ли человек так же ожидать полного своего уничтожения от времени или случая; не имеет ли он права, исполнив все обязанности и принеся все жертвы, приблизить час перехода в мир иной, туда, где ему уготован вечный покой; мысли о самоубийстве смущали мой ум. Волнуемый ими, я поднялся и стал расхаживать по краю валуна; я ходил так стремительно и так неосторожно, что не свалился в море лишь по чистой случайности. Внезапно что-то прошелестело за моей спиной, как будто край чьего-то платья задел за ветви кустарника. Я обернулся, но никого не увидел. Не успел я, однако, сделать и нескольких шагов, как шелест за моей спиной послышался вновь, а на третий раз ледяная рука легла на мой пылающий лоб, и тогда я узнал Духа и сказал, объятый страхом:
– Открой мне твою волю, и я исполню ее, если то будет воля родителя и друга, а не фантазия прихотливого призрака; ибо я могу найти защиту от всего, и даже от твоих приказов, в смерти.
Ответа я не услышал, но ледяная рука отпустила мой лоб, а взглянув вперед, я увидел в некотором отдалении аббата Спиридиона в старинном платье – точно таком же, в каком он предстал мне у смертного ложа Фульгенция. Спиридион стремительно удалялся по длинной огненной полосе, зажженной в море солнечными лучами. Дойдя до горизонта, он обернулся, сам сияя, словно солнце, и одной рукой указал мне на небо, а другой – на дорогу, ведущую в монастырь. Затем он исчез, а я продолжил свой путь, исполненный радости и восторга. Пускай я лишился ума, зато меня посетило видение величавое и возвышенное».
– Отец Алексей, – перебил я рассказчика, – должно быть, вам было нелегко вновь свыкнуться с монастырской жизнью.
«Разумеется, – отвечал он, – жизнь отшельническая больше отвечала моим вкусам, нежели та, какую следовало вести в монастыре; однако это волновало меня очень мало. Не суетного земного счастья я искал; не ребяческое стремление к благополучию двигало мною; единственное, чего я желал, было обретение если не веры в Бога, то, по крайней мере, надежды на него. Сумей я усовершенствовать свою душу так, чтобы она открылась истине, мудрости и добродетели, я почитал бы себя счастливым настолько, насколько может быть счастлив человек на этой земле; но увы! – даже принеся последнюю, громадную жертву, я не избавился от сомнений. Правда, я вел теперь жизнь более добродетельную, чем в ту пору, когда покинул монастырь. Устав возделывать бесплодное поле чистого ума или, вернее сказать, осознав, как велики те просторы души, которые ложная философия желает свести к холодным метафизическим спекуляциям, я ощущал суетность всего, что прежде пленяло меня, и мечтал о мудрости, которая сделала бы меня лучше и чище. Самоотвержение возвратило мне способность быть милосердным; дружба научила сердечной нежности; поэзия и искусство внушили предчувствие жизни вечной; Спиридион, мой добрый гений, возвратил веру и энтузиазм; однако я сделал еще не все необходимое; оставалось исполнить свой долг, но прежде надобно было понять, в чем он заключается. Заботу о нескольких больных, которым я облегчил физические страдания, я не мог поставить себе в заслугу: я помог им походя, Провидение же вознаградило меня за это сторицею, даровав мне дружбу двух возвышенных душ – отшельника на земле и Эброния на небе. Итак, возвратившись в монастырь, я занялся поисками своего предназначения. Порой я по-прежнему испытывал недоверие к тому, что в другое время назвал бы наваждением, фантазиями ума, склонного к вере в чудеса; я спрашивал себя, какую пользу может принести монах, затворившийся в стенах монастыря, в наш век, когда великие труды монастырских эрудитов прошлых столетий уже принесли свои плоды и все сокровища, прежде скрытые от людских глаз, явлены роду человеческому для его обучения и просвещения; в наш век, когда – и это куда более важно! – религия перестала нуждаться в монастырском уединении, а люди перестали нуждаться в религии. Что же могу я сделать для настоящего, если сам прикован к прошлому? Как могу идти и показывать дорогу другим, если сам связан по рукам и ногам?