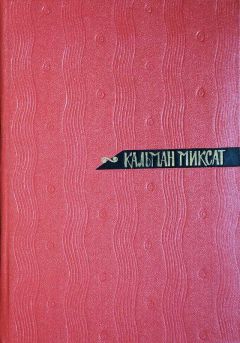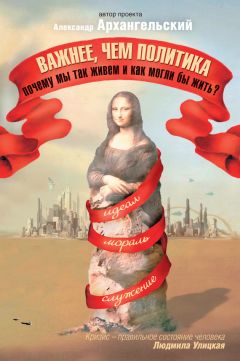Кальман Миксат - Том 3. Осада Бестерце. Зонт Святого Петра
— Итак, приготовься! — Собери все свои вещи, сложи в сундук все фамильные драгоценности Понграцев. Все это твое, мой маленький военный трофей!
На глаза девушки навернулись слезы, и, когда Аполка подошла к графу и уронила к нему на грудь свою головку, он почувствовал, что его рубашка стала мокрой от слез. Глаза графа, может быть в последний раз, приняли осмысленное выражение, по всему телу словно прокатилась теплая волна, и он спросил горячим, взволнованным голосом:
— Хочешь у меня остаться, Аполка?
Девушка еще ниже опустила свою растрепанную головку (граф, сам того не замечая, расплел ее собранные в косы белокурые волосы) и, спрятав лицо у него на груди, тихо, словно стыдясь своих слов, пролепетала:
— Я буду часто-часто навещать вас. Очень часто. Раз в неделю. Хорошо?
Руки Иштвана Понграца, обнимавшие белоснежную шею девушки, упали, как надломленные: какая-то роковая сила нанесла ему удар.
— Значит, ты все-таки хочешь уйти? — вырвалось у него.
Он уставился на нее бессмысленным, тупым взглядом, затем повернулся на каблуках и поплелся из комнаты, как побитая собака. Напрасно Аполка кричала ему вслед:
— Не сердитесь на меня, граф Иштван, я буду приезжать к вам два раза в неделю! И два раза в неделю вы будете ездить к нам. Мы будем всегда вместе, Я буду любить вас, как и прежде.
Он шел по коридору неверными шагами, не оборачиваясь, словно не слыша ее слов, уронив голову и сердито размахивая руками.
У себя в кабинете он заметил часового, который все еще стоял, словно застыв на месте.
— А ты чего ждешь? — спросил он.
— Ответа, ваше сиятельство.
— Какого ответа?
— Для гонца, что привез вам письмо.
— А-а, правильно. Пришли сюда этого человека.
Старый Янош Реберник (тот самый гайдук, который несколько лет назад подобрал Аполку на берегу Вага) вошел в комнату.
— Передай своему господину, что Иштван Понграц слов на ветер не бросает. В субботу можете получить девушку.
Затем он взял со стола два пистолета великолепной работы и подарил их Ребернику:
— У меня можно получить или двадцать пять палок, или что-нибудь хорошее. Поезжай с богом, старина!
Когда гонец бургомистра Блази уехал, граф словно почувствовал облегчение. Весь вечер он весело мурлыкал что-то себе под нос и даже насвистывал. Обитатели замка говорили друг другу: «Видно, добрая весть была в письме, которое сегодня получил наш господин». О содержании письма граф никому не обмолвился, даже Пружинскому, хотя вечером, что уже давно не случалось, он велел позвать поляка к себе:
— Давай, дружище, повеселимся с тобой сегодня.
Они пили до позднего вечера из больших серебряных кубков, так что паж едва успевал таскать им из подвала вино. Под конец граф Иштван, как в былые времена, развеселился, позвал капеллана, «дьяка» Бакру и «полковника» Памуткаи и приказал им хором петь:
И понятно, пьем в течение
Всего святого воскресения.
Сам граф Иштван пел вместе со всеми, отбивая ногою такт шутовской, лишенной мелодии песни… Чего доброго, чудодейственная влага еще вернет ему рассудок!
И вдруг, словно оборвалась какая-то струна, без всякого перехода Понграц внезапно заплакал и начал по очереди обнимать своих друзей: расцеловав их, раздарив им на память серебряные кубки, он побежал во двор, оттуда в парк, где забрался на пчельник, уселся среди ульев и просидел до самого утра, неподвижно, уставившись на луну и на сверкающие глаза звезд Большой Медведицы.
Всю ночь граф ни на минуту не сомкнул глаз, но наутро его не клонило ко сну; он много выпил накануне, но не был пьян. Чуть свет он послал Стречо в деревню Лапушня, приказав позвать к нему тамошнего столяра Дёрдя Матея со всеми инструментами.
Дёрдь Матей как раз собрался позавтракать, но, зная причуды своего барина, все оставил нетронутым и поспешил в замок.
Граф Иштван ласково принял его и угостил токайским, которое как раз пил.
— Хорошее вино? — спросил он у столяра.
— Наверное, хорошее, — отвечал тот, — раз его подносят маленькими стаканчиками.
Граф Иштван швырнул на пол стопку, схватил большой серебряный кубок и, наполнив его токайским, протянул столяру.
— Так зачем изволили меня звать, ваше сиятельство?
— Большое дело задумал я, Дёрдь Матей. Такого тебе еще никогда не доводилось делать.
— Делал я, ваше сиятельство, все на свете, даже арестантские колодки.
— Так вот, сделай мне гроб из орехового дерева в полторы сажени шириной и в полторы сажени высотой.
Дёрдь Матей от удивления рот разинул:
— Какой же это гроб с дом величиной? Это ж целый Ноев ковчег, ваше сиятельство!
— Не твое дело. Мастер ты хороший, справишься. Ореховое дерево и все прочее есть. До тех пор не выйдешь из замка, пока не закончишь.
И Матей приступил к работе: в каретнике он строгал и пилил, и никто в замке не мог догадаться, на что это он изводит такие замечательные ореховые доски. Граф то и дело приходил к нему посмотреть, как подвигается работа. Видно было, что его очень интересует данный столяру заказ.
Все остальное время он молча шагал взад-вперед по комнате или стоял у окна; завидев же кого-нибудь, будь то незнакомый проезжий или ярмарочный торговец, — зазывал к себе в кабинет и дарил что-нибудь из своих вещей: оружие, дорогие кинжалы и сабли, любимые безделушки. Пружинский беспрестанно упрекал его:
— Иштван, ради бога, что ты делаешь? Я тебя не понимаю.
А граф только улыбался в ответ, но в улыбке его было что-то загадочное. За нею крылся какой-то страшный замысел.
— Эх, Пружинский, на свете много такого, чего тебе не понять.
В конце концов Пружинский сообразил, как помочь беде, и выставил на расстоянии нескольких ружейных выстрелов от замка часовых, которые без разговора прогоняли всех, кто пытался приблизиться к крепости.
На третий день кое-кто из обитателей Недеца, через щели в стенах каретника разглядевших, что там мастерит столяр, начали испуганно перешептываться, что Матей делает огромный гроб, в котором уместится все население замка.
— Гроб готов, — сообщали позже. — Теперь Матей полирует его. Кровь стынет в жилах, когда видишь такое. Ну, братцы, дело не шутка. Добром это не кончится.
Пружинский своевременно прослышал о гробе и сам пошел посмотреть, что происходит в каретном сарае. Убедившись, что слухи соответствуют действительности, он ничего не сказал, но побледнел, как стенка. Он поднялся к себе, уложил свои книги, платье и другие пожитки, а затем пошел к графу доложить, что у него во Львове скончался младший брат и что он должен уехать немедленно.
— Ты бы лучше ему написал…
— То есть как? Ведь он же умер?
— Ну так что ж… Неважно, — возразил граф и снова улыбнулся своей загадочной, устрашающей улыбкой.
Пружинский попросил на дорогу немного денег взаймы. Понграц долго шарил по всем карманам, выдвинул по очереди все ящики стола и в конце концов предложил ему паука, который теперь трудился над вытягиванием пятого по счету номера.
— Это — верные деньги, особенно во Львове, где самая лучшая лотерея. Надо только немного удачи, — пояснил граф.
Но Пружинский не очень-то верил в паука и попросил вместо него золотую цепь с сапфирами и рубинами, украшавшую когда-то ментик славного Петера Понграца, которую он однажды видел в графском ларце из черешневого дерева.
— Изволь! — Граф пренебрежительно махнул рукой, словно удивляясь наивности Пружинского. — Ну и глуп же ты, братец. Впрочем, если цепочка кажется тебе ценнее паука, — бери! — И отдал ему дорогую цепь. Похлопав Пружинского по плечу, он спросил его:
— Когда думаешь вернуться!
— Через несколько дней.
Пружинский своим поспешным отъездом загадал трудную загадку остальным прихлебателям в замке. Раз крыса бежит с корабля, значит, корабль… «Этот Пружинский — продувная бестия, он за версту чует опасность, как лягушка — дождь. А гроб, ох, уж этот гроб, — не случайно его заказал граф!»
На следующую ночь исчез Бакра и несколько человек из постоянного гарнизона и челяди замка. Какая-то таинственная опасность витала в воздухе: по ночам на тополя, росшие перед замком, со всей округи слетались филины, в полночь под пятницу куры начали кукарекать (каждому доброму христианину в такую минуту следует перекреститься), а Ватерлоо в ту же ночь вырыл в конюшне левым передним копытом целую яму. Нет, тут что-то нечисто. Спасайся, кто может!..
В пятницу утром Понграц приказал оседлать ему Ватерлоо, сказав, что он поедет по округе с визитами. Все в замке удивились: вот уже полтора года, как граф не выходил за стены замка. Он был бледен, выглядел больным, и голос его звучал глухо, словно кто-то другой говорил за него из глубокого подземелья. Памуткаи, который видел яму, вырытую лошадью в конюшне, со слезами в голосе уговаривал графа: