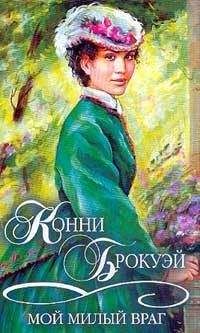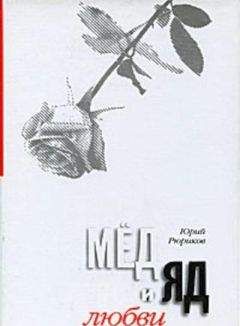Александр Сеничев - Александр и Любовь
Семь лет спустя внезапно ставшие из ничего всем крестьяне разграбят дом. Опустошат стол поэта - еще крепостной работы, доставшийся ему от отца. Из секретных ящиков, в которых Блок хранил письма жены, ее портреты, личный дневник, что-то из рукописей, пропадет всё. Нас будут уверять, что Александр Александрович обрадуется такому повороту. Зоргенфрей расскажет, что поэт ликовал, узнав о разорении революционными массами его родового гнезда:
- Хорошо, - сказал якобы Блок, и лицо его якобы озарила счастливая улыбка.
Эта дурь кочевала и, кажется, всё еще кочует из учебника в учебник. И мы напомнили о ней снова лишь затем, чтобы еще раз оправдать наши поиски настоящего, неотретушированного Блока - это «хорошо» чертовски смахивает на приснодавнее «я рад» в ответ на признания Белого о намерениях забрать у него Любу.
Блоки задержались в Шахматове неспроста: явилась идея перезимовать в усадьбе. И это был не минутный порыв. Мысль о деревенском уединении показалась им настолько привлекательной, что были закуплены валенки для прогулок по лесу, заказаны санки. Но надолго запала не хватило. Уже в середине октября - метель. В лесу ложится снег. Блоки перебираются из большого дома в родной флигелек. Через пару дней - оттепель. Они лепят на берегу пруда «болвана из снега» («он стоит на коленях и молится»). Однако становится очевидным, что затея с зимовкой бесплодна - «мертвая тоска», как напишет Блок матери.
Опять же, напомнил о себе раскаявшийся во всем и снова влюбленный в Сашу (теперь уже только в Сашу - за «поле Куликово») Белый. Он снова зовет Блока в свои братские объятья. А не в объятья - так хотя бы на свою лекцию о Достоевском. А заодно уж и потолковать о перспективах созданного при его участии многообещающего издательства «Мусагет». И 31-го октября Блок уезжает в Москву.
На другой день отбыла в Петербург Люба. Которую уже страницу она отсутствует, не отлучаясь.
Диагноз «без жизни» предельно точен. Они неразлучны почти год, но это ничего не дает. Они, как и прежде, нужны друг другу, но ни один из них не может ответить на вопрос -зачем. Они прикладывают все усилия к тому, чтобы казаться себе семьей, но результаты всех усилий - «внешнее». А «внешнее» - едва ли не самое ругательное в лексиконе Блоков слово. Жизни нет.
Нет ее и в стихах Блока той поры. Она улетучилась вместе с его ароматной непонятностью. О его стихах тех лет Чуковский скажет: «поэт для немногих стал постепенно превращаться в поэта для всех». И этот поэт грузит теперь Россию своим бывшим, прошлым, ощущением доживания. Теперь он «старик», «стареющий юноша», просто «старый» (ему только что грянуло тридцать!). В стихах его теперь так много ночи...
Ее было достаточно и прежде, но теперь это черная, страшная ночь: «Ночь - как ночь, и улица пустынна», «Ночь - как века» и т.д., т.д., т.д...
И эта его ночь страшна, как страшен и весь мир. «И мир - он страшен для меня», «Забудь, забудь о страшном мире», «Страшный мир! Он для сердца тесен.» - Блок не стесняется повторов, он задалбливает одно и то же. Ему страшно всё - даже творчество. Даже женские объятья. Наслоившиеся смерти и неспособность отыскать спасение от них в Любином тепле сделали свое дело - жизнь кончилась насовсем. «Жизнь пуста.», «Жизнь пуста, безумна и бездонна.», «Жизнь пустынна, бездомна, бездонна.» -твердит поэт.
Перечитайте «Ночь, улицу, фонарь, аптеку». Это, между прочим, вторая из «Плясок смерти», - что-то ведь таким названием он хотел сказать?
Все восемь лет - с 1908-го по 1916-й (когда он практически перестанет писать стихи) Блок будет неустанно повторять одно и то же: он мертвец:
Верни мне, жизнь, хоть смех беззубый,
Чтоб в тишине не изнемочь.
Умерщвлена даже любовь. Даже любовь не может уже поднять его из этого прижизненного гроба. Если женщина не соединяет с Иными Мирами, она всего-то - постылый автомат для тягостных и скоро приедающихся удовольствий:
И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст,
И примелькавшиеся плечи.
И та, что живет все это время рядом с мертвецом, не может не слышать его остерегов:
С мирным счастьем покончены счеты,
Не дразни, запоздалый уют...
Очень хочется, но очень трудно что-то добавить. Блок остался без любви. Без даже тени её.
Даже имя твое мне презренно -
это споется позже, как и
Подойди. Подползи. Я ударю!
От бога Блок отрекся еще в стихотворении на смерть младенца. Позже, в «Итальянских стихах» он подтвердит и даже усилит факт этого демонстративного отступничества: расскажет о деве Марии, растленной монахами, а в любовники ей запишет собственной персоной архангела Гавриила. А затворничество в Шахматово - что это если не попытка отречения от всех вообще?
Нас будут уверять, что весь август с сентябрем он работает над «Возмездием» - поэмой о смерти отца и судьбе сына, затеянной еще в Варшаве.
Да он будет работать над ней практически до самой смерти. И в результате - четыре с половиной сотни строк, никак не попадающие в золотой фонд русской поэмы. Работал, извините, - Пушкин, Блок - прикрывался работой. В то, по крайней мере, лето.
Без людей, без бога, без любви, без любимой - с одними страхом и смехом, Блок ищет и ищет новые мосты - те, которых еще не успел поджечь.
Любовь Дмитриевна сказала об этом много проще нас: без жизни.
Зима 1910-11: жизнь на людях
А эта формулировка из арсенала Марии Андреевны. И она нам тоже очень импонирует: сказано в самую точку - после долгих месяцев тщетных надежд на подзарядку от любимой очередной ударной дозой света и тепла Блока потянуло к людям. Простивший, принявший и не обласканный так, как ему нужно (а кроме него вряд ли кто и понимал - как) поэт шел к людям совершенно мертвый, злой и обиженный в лучших чувствах.
Откуда было знать Певцу Прекрасной Дамы, что даже благополучно рожающие женщины не восстанавливаются полностью за полгода-год? Не восстанавливаются никак - ни физиологически, ни психологически, ни психиатрически, если хотите. Мама ему об этом вряд ли рассказывала. Тетка -тем более.
Осознавал ли А.А.Блок, что это не ему, а его Любе нужны были теперь свет и тепло? Как никогда еще. Высокое Возрождение, конечно, очень приятно и даже очень полезно, но ведь и оно не панацея.
Пыталась ли объяснить это Блоку сама Люба? Вряд ли.
Уж слишком сформировавшимся стал к тому времени тип их отношений. И потом - как это вы себе представляете: объяснить что-то Блоку? Вы пробовали когда-нибудь договориться с компьютером? Он же в лучшем случае выполняет команды, идущие от кнопок, которые вы нажимаете. Даже если вы нажимаете их по ошибке. А Блок - в определенном смысле - та же машина: совершенная машина по производству лирики. Веками это почему-то не понимается окружающими. Для общества поэт, даже самый успешный - всегда бездельник, нашедший себе непыльное занятьице. Этакий дезертир от общественно полезного, нахлебник нации, исхитрившийся убедить всех в своей значимости.
В конечном счете, общественная претензия верна: писать в рифму умеют двое из трех. Но лишь без учета главного: стихи - в точном смысле этого слова - настолько уникальный продукт жизнедеятельности человечества, что к созданию их природа допускает предельно редких чудаков. Таких, например, каким и был наш с вами Александр Александрович. А ждать от избранного типических реакций, по меньшей мере, странно. И своевременно успевшая разобраться в этом Любовь Дмитриевна типических реакций не ждала. И с какого-то момента Блока на них, скорее всего, уже и не провоцировала.
Короче. Заплесневевшего слегка в 1910-м Блока понесло в народ. То есть, в свет. Из Москвы он вернулся встряхнувшимся, посвежевшим, настроившимся на жизнь новую. Вернулся в новую, кстати, квартиру - теперь на Малой Монетной, 9. Блок так и называл ее - молодой (подсознание, господа, подсознание).
Он максимально активен. Снова выступает с речами Засел за сборники стихов для «Мусагета». Снова сошелся с Вячеславом Ивановым. Видится с сестрой Ангелиной - та приезжала советоваться насчет поступления на Высшие курсы. На Рождество традиционно отметился в Ревеле. К Новому году вернулся домой.
Блок пытается дышать всею грудью. Целыми днями он скитается по петербургским окрестностям. Городецкий приучил его к катанию на лыжах. Поэт открыл для себя также катание на санках с горы - потрясающая забава, которой он в компании с Пястом отдает дань со всей опять нестарческой непосредственностью. Он увлечен вошедшей недавно в моду французской борьбой. Как зритель, разумеется. Но пропадает в цирках, буквально влюблен в талант голландца Ван-Риля. Он регулярно посещает массажиста, тренирующего профессиональных борцов, хвалится, что не хуже него выжимает гирю. «Я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), - пишет он в эти дни матери, - Я чувствую, что у меня. определился очень важный перелом.»