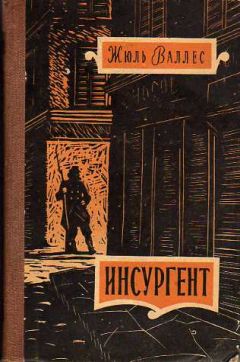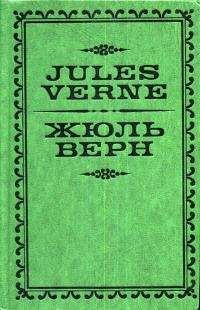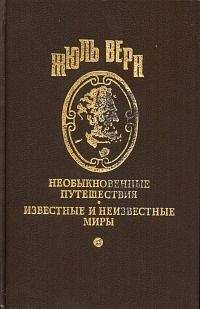Жюль Валлес - Инсургент
Они громко выкрикивают то, что я тихонько говорил самому себе, припав ухом к земле в ожидании топота лошади Ла-Сесилиа.
— Вам лучше бы убраться, — говорит мне Лисбон, — они способны поставить вас к стенке. Меня они все-таки знают, немножко любят, я постараюсь их удержать.
— Извозчик!
— Пожалуйте!
— Вам не страшно там, на ваших козлах, приятель?
— Страшно?! Я из Бельвилля! И хорошо вас знаю. Но! Поехали!
Пули свистят, кляча выгибает спину, возница наклоняется ко мне и начинает болтать.
— Им ни за что не войти, гражданин... если каждый будет как следует защищать свой квартал.
Эта-то идея нас и убьет! Каждый квартал отдельно!.. Социальной революции придется отступить.
Войска стреляли от Трокадеро по направлению к Марсову полю. Военная школа опустела, также и военное министерство.
Я взбираюсь по лестницам, ломлюсь в двери.
Никого!
Внизу суматоха поражения.
— Все в ратуше, — крикнул мне из-под сводов один капитан.
— Надо идти туда, — говорят офицеры, свертывая на Гревскую площадь.
Несколько решительных преградили нам дорогу.
— Не пройдете! — кричат они.
У одного из них волосы развеваются по ветру, рукава засучены, на обнаженной волосатой груди запеклась кровь. Он только что получил удар штыком и направляет теперь свой против толпы.
— Ни с места!
Он готов разить всех подряд.
Но людской поток унес его, вместе с его оружием, как крошку мяса, как металлическую стружку, прежде чем он успел крикнуть, сделать хоть одно движение. Слышен был лишь гул толпы, как будто шло по пыльной дороге стадо буйволов.
РатушаОни и в самом деле здесь. Ла-Сесилиа и еще человек двадцать — корпусные командиры, члены Коммуны.
Лица сумрачны; говорят вполголоса.
— Все погибло!
— Вбейте назад в вашу глотку эти слова, Вентра! Нужно, напротив, кричать народу, что город станет могилой для войска, вдохнуть в него мужество, призывать его строить баррикады.
Я рассказываю, что видел.
— У Версальских ворот они, возможно, и колебались, но вы увидите, что в Париже они продержатся против солдат до тех пор, пока у них будут патроны и снаряды.
В Париже? Но что говорит этот Париж?..
С самого раннего утра я видел лишь картину поражения.
ПолденьГде только была моя голова! Я думал, что город будет казаться мертвым еще до того, как будет убит! Но вот вмешиваются женщины и дети. Красивая девушка водружает совершенно новое красное знамя, и оно пылает над серыми камнями, точно красный мак на развалинах.
— Ломайте мостовую, гражданин!
Всюду горячка, вернее — здоровое возбуждение. Ни криков, ни пьяных. Изредка кто-нибудь подбежит к стойке и тут же, наскоро вытерев тыльной стороной руки губы, возвращается к работе.
— Мы постараемся устроить сегодня хороший денек, — говорит мне один из утренних крикунов. — Вы только что усомнились в нас, товарищ. Приходите-ка сюда, когда здесь станет жарко, и вы увидите, имеете ли вы дело с трусами.
Красные знамена развеваются... Теперь можно умереть.
И никаких начальников. Никого, на чьем кепи блестели бы четыре серебряных галуна, кто был бы опоясан хотя бы шарфом Коммуны с золотой кисточкой.
Мне тоже хочется снять свой шарф, чтобы не казалось, что я пришел сюда распоряжаться, когда все уже сделано. Впрочем, на него никто не обращает внимания.
— Ваше место не здесь, — резко сказал мне федерат с морщинистым лицом. — Разыщите остальных, устройте совещание, примите какое-нибудь решение. Неужели вы еще ничего не приготовили, черт возьми?.. Пушку сюда, Франсуа! Эй, тетка, патроны клади там!
Я не стою этой женщины, катящей ядра, и этого парня, устанавливающего пушку. А как носитель шарфа я и вовсе не иду в счет.
XXXI
Но, может быть, те, с кем я сталкивался с того момента, как вступил в битву с жизнью, — может быть, они будут рады в этот решительный момент увидеть в своих рядах меня, их старого товарища по нищете и труду, беднягу, который так долго шатался в потертом пиджаке по аллеям Люксембургского сада?
Этот Латинский квартал, где томилась моя скорбная юность, если и поставлял бойцов для социальных войн, то главным образом в лагерь угнетателей. Потомки Прюдома всегда старались увильнуть от битв, где их пальто могла задеть рабочая блуза, где мастер баррикады мог прикрикнуть на бакалавров, если бы они помешали маневрам или стрельбе.
Кто знает, не будут ли они более решительны, имея во главе одного из своих же!
Я побежал в ратушу.
— Приложи-ка сюда печать, Гамбон!
— Прекрасная идея! Там, вокруг Сорбонны, они все тебя знают. Только, если не ошибаюсь, ты не в ладах с Режером?[199] Впрочем, вот твоя бумага... А теперь обними меня! Кто знает, что может случиться.
Он обнял меня, подписав как член Комитета общественного спасения мое назначение председателем комиссии по обороне, заседающей в Пантеоне.
Я не очень-то силен в стратегии. Как нужно укреплять квартал? Как ставят орудия на батарее?
Разве интеллигент что-нибудь понимает в этом?
Проходя мимо коллежей Сен-Барб и Луи-ле-Гран, я пригрозил им кулаком. Школьник с седеющими усами, я проклинал эти казармы, не научившие меня ничему, что пригодилось бы мне сейчас в борьбе с войсками.
Режер принадлежал к «большинству» и был одним из наиболее горячих. Мы все-таки поздоровались. Но он хочет сохранить за собой командование... все командование.
Ну что ж, спрячь в карман свою бумажку, Жак. Напомни старым товарищам только о своем прошлом, о днях нищеты и тюрьмы, о том, как ты с ними работал в библиотеке, вместе разгуливал по Одеону.
Многих из них я встретил на улице. Одни бежали, искали, где бы спрятаться, другие храбро взялись за дело.
Мне пришлось подписать целую кучу назначений в делегаты, на основании моего полномочия, которое я вытащил, все измятое, из своего жилетного кармана.
Такие бумажонки нужны для двадцатилетних честолюбцев. Они готовы быть расстрелянными вечером, лишь бы иметь возможность похвастаться утром офицерским свидетельством.
Однако они сразу же принялись за работу; нагромождали тюфяки, доставляли провизию и амуницию и подвергали себя смертельной опасности.
Это-то как раз и нужно!
Если завтра некоторые из этих папенькиных сынков будут убиты или сосланы, — это бросит семена восстания на буржуазную почву.
Я делаюсь полноправным членом отряда, расположившегося вокруг Пантеона. Мало хорошего говорят здесь о Коммуне.
— Если б она была более энергична!
— И если б вы, Вентра, не усыпляли народ вашей умеренной газетой, — горячится один лейтенант, чуть не хватая меня за горло.
В этом отряде не любят «меньшинства».
Выстрел!
— Черт подери, придется класть заплату на пальто! Еще немного пониже, — пришлось бы зашивать и кожу.
Разрядился чей-то пистолет... нечаянно.
Мы помирились.
Злоба затихает перед лицом приближающегося врага.
Он уже на Монпарнасском вокзале.
Нападет ли он на наш квартал?
— А что, если мы нападем на него первые?
Эта мысль была высказана вечером, на совещании командиров, одним из прежних товарищей, тоже литератором, но не признающим классической стратегии и баррикадных боев.
— Двинемся вперед и выбьем их!
— Это безумие! — возражают единодушно бывшие солдаты.
Да. Но, во всяком случае, безумие смелых, оно может привести в замешательство противника и едва ли будет опаснее пассивного сопротивления.
Но мы с товарищем остаемся одни с нашим безумным проектом и клянемся идти бок о бок до конца, чего бы это ни стоило.
— Обещайте прикончить меня, если я буду тяжело ранен.
— Согласен, но с условием, что вы окажете мне ту же услугу, если почин сделаю я.
— Идет!
Я чертовски боюсь физических страданий и из чувства малодушия предпочту смерть, хотя, конечно, не особенно весело умереть где-нибудь под забором от руки своего товарища.
— А по-вашему, приятнее быть проколотым штыком?
— Проколотым!..
— Дорогой мой, эта солдатня, если б она могла, искромсала бы нас на куски уже тогда, когда мы проповедовали войну до победного конца. На этот раз они острием своих сабель выколют нам глаза: ведь это из-за нас их вытащили из родных деревень.
Ко мне подходит один из бойцов.
— Гражданин, не хотите ли взглянуть, как выглядит труп предателя?
— Кого-нибудь казнили?
— Да, булочника, он сначала отрицал, а потом сознался во всем.