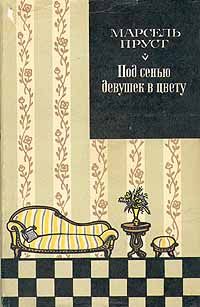Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету
Мне предстояло пережить одно из тех тяжелых состояний, с которыми нам обычно не раз приходится столкнуться в жизни, но к которым, хотя бы никаких изменений не претерпел ни характер наш, ни природная наша сущность, — природная сущность, сама создающая нашу любовь и даже, пожалуй, женщин, любимых нами, вплоть до их недостатков, — мы каждый раз, то есть в разном возрасте, относимся по-иному. В такие минуты наша жизнь распадается на части, которые оказываются как бы на двух противоположных чашках весов, вмещающих их целиком. На одной из них — ваше желание избежать невыгодного впечатления, не показаться слишком жалким в глазах женщины, которую мы любим, не понимая ее, но которую нам представляется более правильным держать немного в стороне, чтобы у ней не явилось мысли о своей незаменимости, мысли, способной отвратить ее от нас; на другой же чашке — страдание, и страдание не частичное, локализованное, а такое, которое мы могли бы заглушить только в том случае, если бы, не стараясь больше понравиться этой женщине и уверить ее, что мы можем без нее обойтись, мы вернулись к ней. Если с чашки, где лежит гордость, снять маленькую частицу воли, которая по нашей слабости поизносилась с годами, а на чашку, где лежит горе, положить приобретенное тем временем и запущенное по нашей вине физическое страдание, то вместо мужественного решения, которое взяло бы верх в двадцать лет, другая чашка, чрезмерно отяжелев и лишившись противовеса, увлечет нас вниз, когда нам стукнет пятьдесят. Тем более что положения меняются, хотя бы и повторяясь, и может случиться, что к середине или к концу жизни мы с пагубной снисходительностью по отношению к себе осложним любовь привычкой, чуждой молодости, которую удерживают иные обязанности, которая не так свободно располагает собой.
Только что успевал я написать Жильберте письмо, где давал волю грозе моего гнева, не упуская, однако, случая бросить спасательный круг в виде нескольких, как бы случайно проскользнувших слов, чтобы примирение могло за что-нибудь зацепиться, — как, минуту спустя, когда ветер уже менялся, я обращался к ней с фразами, полными любви, окрашенными нежностью, которая сквозила в отдельных отчаянных выражениях, в таких словах, как «больше никогда», столь умилительных для пишущего, но столь несносных для той, кто будет их читать, независимо от того, найдет ли она их лживыми и истолкует это «больше никогда» как «сегодня вечером, если вы не прогоните меня», или поверит этим словам, возвещающим ей окончательный разрыв, к которому мы относимся с таким полным равнодушием, когда дело идет о существе, безразличном для нас. Но если, любя, мы не в состоянии поступить так, как подобало бы достойному предшественнику человека, которым мы вскоре сделаемся и который уже не будет любить, то каким образом могли бы мы представить себе умонастроение женщины, которой, зная даже, что ей до нас нет дела, но стараясь утешить свое горе или убаюкать себя прекрасной грезой, мы вкладывали в уста такие речи, как если бы она нас любила? В мыслях и поступках любимой женщины мы так же плохо разбираемся, как первые физики разбирались в явлениях природы (пока не возникла наука и не внесла некоторой ясности в мир неведомого). Или, того хуже, — как человек, сознанию которого остался бы почти совершенно чужд закон причинности, как человек, который был бы не в состоянии протянуть нить от одного явления к другому и для которого зрелище мира было бы так же смутно, как сон. Правда, я старался выйти из этой путаницы, отыскать причины. Я старался даже быть «объективным» и для этого не упускать из виду несоответствие между значением, которое Жильберта имела для меня, и тем значением, которое не только я имел для нее, но которое и сама она имела для других, — несоответствие, которое, если бы я не учел его, могло бы заставить меня принять какую-нибудь простую любезность со стороны моей приятельницы за страстное признание, смешную и унизительную выходку с моей стороны — за изящное и свободное движение, приближающее вас к прекрасным взорам. Но я боялся также впасть в противоположную крайность, ту крайность, когда в неаккуратности Жильберты, опаздывающей на свидание, я стал бы видеть знак ее досады, непоправимой враждебности. Между этими двумя равно деформирующими точками зрения я старался найти ту, с которой я правильно мог бы смотреть на вещи; вычисления, которые мне приходилось делать для этого, несколько отвлекали меня от моего горя; и то ли повинуясь ответу чисел, то ли вкладывая в них желательный мне ответ, я решал завтра же пойти к Сванам, уже радуясь этому, но как человек, долго мучившийся мыслью о путешествии, которое ему не хотелось предпринимать, доехавший только до вокзала и вернувшийся домой, где он распаковывает свои чемоданы. А так как в минуты колебания уже из одной мысли о возможности решения (если только мы не парализуем эту мысль, внушив себе, что не примем никакого решения), словно из живучего семени, перед нами возникает во всех подробностях картина тех чувств, которые вызвало бы в нас осуществление поступка, то я, сказав себе, что вел себя очень нелепо, намереваясь больше не видеться с Жильбертой и тем самым причиняя себе такую же боль, как если бы я уже осуществил это намерение, и что раз я в конце концов вернусь к ней, я мог бы уберечь себя от стольких колебаний и мучительных решений. Но эта восстановленная дружба прервалась, как только я пришел к Сванам, и не оттого, что их дворецкий, очень любивший меня, сказал, что Жильберты нет дома (действительно, я в тот же вечер от людей, видевших ее, узнал, что это была правда), а оттого, как он сказал: «Сударь, барышни нет дома, уверяю вас, сударь, я не лгу. Если угодно проверить, могу позвать горничную. Барин ведь знает, я все готов сделать, чтобы доставить ему удовольствие, и если б барышня была дома, я сразу же проводил бы барина к ней». Слова эти, из числа тех, которые единственно важны для нас, потому что, сказанные невольно, они хотя бы в общих чертах дают нам рентгенограмму не навлекающей на себя подозрений действительности, которую скрыла бы обдуманная речь, — слова эти показывали, что у людей, окружавших Жильберту, создалось впечатление, будто я ей мешаю; вот почему, как только дворецкий произнес эти слова, они зародили во мне ненависть, которую я предпочел обратить не на Жильберту, а на дворецкого; на нем сосредоточилось все чувство негодования, которое могла бы возбудить во мне моя приятельница; освобожденная от этого чувства благодаря его словам, любовь осталась одна; но эти же слова вместе с тем показали мне, что некоторое время я не должен стараться увидеть Жильберту. Она, разумеется, напишет мне, будет извиняться. Несмотря на это, я не сразу пойду к ней, чтобы доказать ей, что могу жить и без нее. К тому же, если бы я получил ее письмо, мне некоторое время было бы легче лишать себя встреч с Жильбертой, так как я был бы уверен, что увижу ее, как только мне захочется. Чтобы с меньшей тоской перенести добровольную разлуку, мне нужно было освободить свое сердце от страшной неуверенности: не навсегда ли мы поссорились, не обручена ли она, не уехала ли, не похищена ли? Следующие дни напоминали ту оставшуюся в прошлом новогоднюю неделю, что мне пришлось провести без Жильберты. Но тогда, с одной стороны, я был уверен, что, как только минет эта неделя, моя приятельница вернется на Елисейские Поля и я по-прежнему буду видеть ее; с другой же стороны, я знал не менее твердо, что, пока не кончатся новогодние каникулы, не стоит и ходить на Елисейские поля. Таким образом, в течение этой грустной, давно минувшей недели я спокойно переносил свою грусть, потому что к ней не примешивалась ни боязнь, ни надежда. Теперь же, напротив, именно это последнее чувство почти в такой же степени, как и боязнь, сделало мое страдание невыносимым. Не получив в тот же вечер письма от Жильберты, я отнес это на счет ее небрежности, ее занятости, я не сомневался, что это письмо будет в утренней почте.
Я ждал его каждый день с дрожью в сердце, сменявшейся подавленностью, когда приходили письма от людей, которые не были Жильбертой, или ничего не оказывалось, что было не хуже, так как доказательства дружбы других людей заставляли меня еще больнее почувствовать ее равнодушие. Я переносил надежду на следующую почту. Я не решался выходить из дому даже в промежутки между приходами почтальона, так как она могла прислать свое письмо с лакеем. Потом наступал час, когда ни почтальон, ни лакей от Сванов больше не мог прийти и надежду на успокоение надо было отложить до завтрашнего утра, — и вот, считая, что мое страдание будет непродолжительным, я, так сказать, был вынужден непрестанно обновлять его. Горе, может быть, оставалось тем же, но вместо того чтобы, как прежде, служить однообразным продолжением исходной эмоции, оно воскресало по нескольку раз в день, начинаясь эмоцией, которая так часто повторялась, что — будучи состоянием почти физическим и столь преходящим — делалась чем-то устойчивым, и не успевала еще затихнуть тревога, порожденная ожиданием, как для ожидания появлялся новый повод, так что весь день не было ни одной минуты, когда я не испытывал бы беспокойства, которое так трудно вытерпеть и в течение часа. Так мое страдание было несравненно более мучительно, чем тогда, в ту новогоднюю пору, потому что на этот раз вместо простого и чистого приятия страдания во мне жила надежда, что оно каждую минуту может кончиться. Однако в конце концов я должен был принять его, и я понял тогда, что это — окончательно, и навсегда отказался от Жильберты, ради моей же любви к ней и желая прежде всего, чтобы у ней не осталось обо мне презрительного воспоминания. И вот, чтобы она не могла предположить во мне чего-либо вроде оскорбленной любви, я, даже когда она потом назначала мне свидание, нередко соглашался, а в последнюю минуту писал ей, что не могу прийти, выражая, однако, свое отчаяние, как поступил бы по отношению к человеку, которого мне не хотелось бы видеть. Эти слова сожаления, обыкновенно приберегаемые для людей, нам безразличных, должны были, как мне казалось, с большим успехом убедить Жильберту в моем равнодушии, чем тот притворно-равнодушный тон, каким говорят с человеком любимым. Когда я докажу ей, что у меня нет охоты видеть ее, докажу не словами, нет, а действиями, бесконечно повторенными, тогда, может быть, у нее появится охота видеть меня. Увы, это было ни к чему; пытаться, не видясь с ней, воскресить в ней это желание увидеться со мной — значило потерять ее навсегда; прежде всего потому, что если бы я хотел укрепить это воскресающее желание, мне бы не следовало повиноваться ему тотчас же; к тому же самые мучительные часы были бы уже позади; вот в эту минуту она мне необходима, и мне хотелось бы предупредить ее, что скоро, когда она вновь увидится со мной, она успокоит боль, настолько уже затихшую, что эта боль не будет уже, как еще была бы в данную минуту, поводом для сдачи, для примирения, для новых встреч, которые положили бы ей конец. И ведь потом, когда я наконец без риска — настолько в Жильберте окрепнет ее склонность ко мне — смогу признаться в моей склонности к ней, склонность эта, не в силах будучи вынести такую долгую разлуку, уже исчезнет: Жильберта станет мне безразлична. Я это знал, но не мог ей сказать; она подумала бы, что, утверждая, будто я разлюбил ее, слишком долго ее не видя, я делаю это лишь затем, чтобы она поскорее позвала меня к себе. А пока что мне эту разлуку облегчало то обстоятельство, что (с целью наглядно показать ей, что, несмотря на мои уверения, я по своей воле, а не в силу какого-нибудь препятствия, не по болезни лишаю себя свидания с нею) всякий раз, когда мне было известно заранее, что Жильберты не будет дома, что она собирается куда-нибудь вместе с подругой и не вернется обедать, я отправлялся к г-же Сван (которая стала для меня теперь тем же, чем была в то время, когда мне так трудно было видеться с ее дочерью и когда, если она не приходила на Елисейские Поля, я отправлялся гулять в Аллею акаций). Таким образом, я должен был услышать что-нибудь о Жильберте и был уверен, что и обо мне будут говорить при ней, и в таких тонах, что она убедится в моем равнодушии. И как все те, кому приходится страдать, я находил, что мое печальное положение могло бы быть и хуже. Ибо, имея свободный доступ в дом Жильберты, я все время говорил себе, что, несмотря на мое твердое решение не пользоваться этим правом, все же, если боль моя сделается слишком острой, я смогу прекратить ее. Свое горе я чувствовал изо дня в день. Да и это не слишком сильно сказано. Сколько раз в течение часа (но теперь уже без тревоги ожидания, которая угнетала меня в первые недели после нашей ссоры, до того как я снова стал бывать у Сванов) читал я себе вслух письмо, которое Жильберта пришлет же мне в один прекрасный день, даже, может быть, сама принесет. Постоянно стоявший передо мной образ этого воображаемого счастья помогал мне переносить гибель счастья действительного. По отношению к женщинам, которые не любят нас, мы ведем себя как по отношению к «пропавшим без вести»: сознание безнадежности не мешает нам ожидать. Мы живем настороже, прислушиваясь; мать, чей сын ушел в море, в опасное плавание, каждую минуту воображает, даже если давно уже нет сомнений в его гибели, что вот он войдет, спасшийся чудом, целый и невредимый. И это ожидание, в зависимости от силы воспоминаний и сопротивляемости органов, или помогает ей прожить годы, по прошествии которых она в силах будет вынести его смерть, начнет понемногу забывать и вернется к жизни, или убивает ее.