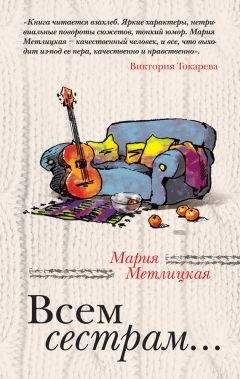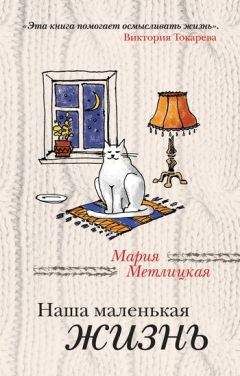Любовь, или Мой дом (сборник) - Метлицкая Мария
Тати с длинным мундштуком в змееобразной руке, Генерал в белоснежной рубашке, развалившийся в плетеном кресле, потные мальчишки с крошками кекса на губах, Нинон с растрепанными пшеничными волосами, прилипшими к гладкому розовому лбу, ее мать, задумчиво наматывающая локон на палец, столбы террасы, увитые воробьиным виноградом, летнее солнце, медленно опускающееся в густые кроны старых деревьев, синеватые датские доги, вдруг бесшумно возникающие на посыпанной гравием дорожке, звук колокола сельской церквушки, спрятавшейся за отлогими холмами, – у меня и сегодня сжимается сердце, когда я вспоминаю те дни, когда все мы были бессмертны…
Я учился в той же школе, что и братья Осорьины (десять лет спустя я узнал, что это стало возможно только благодаря протекции Тати). Это была школа «с уклоном», как тогда говорили, то есть там хорошо преподавали иностранные языки, хотя на самом деле там хорошо преподавали все. Николаша в школе блистал: в двенадцать лет он писал прекрасные стихи и был первым не только по литературе, но по истории и английскому. Борис был первым по всем предметам – учителя восхищались его упорством и трудолюбием. Вдобавок, ко всеобщему удивлению, он увлекся музыкой и стал заниматься с репетитором. Мне же приходилось прилагать немало усилий, чтобы держаться хотя бы чуть выше середины. Лерик был звездой школьного театра, и когда он кричал: «Карету мне, карету!», мы забывали о том, что он рохля и нюня, и вместе со всеми вскакивали и бешено аплодировали.
Виделись теперь мы реже, но летом – почти каждый день. Ходили купаться на речку, загорали на песчаных пятачках в ивняках, мечтали о будущем и наперебой ухаживали за Нинон, которая, кажется, не знала, кому отдать предпочтение – блестящему Николаше или властному Борису, а потому целовалась с обоими, возвращаясь домой с распухшими губами, которые натирала сырым луком, чтобы мать ничего не заметила. Крупная, яркая, стройная, Нинон поражала ранней женственностью, и когда она шла с реки в одном купальнике, чуть покачивая сильными бедрами, мужчины провожали ее плотоядными взглядами.
Ужинали мы в кухне, а потом пробирались в гостиную, где часто собиралась большая шумная компания – писатели, музыканты, живописцы, актеры, молодые мужчины и женщины, фрондеры и диссиденты. Они говорили о Парижском мае и Пражской весне, о Солженицыне и сталинских лагерях, о «Бесах» и «Поэме без героя», о прошлом и будущем России…
Тати нравилось общество этих людей.
Помню, как она рассказала гостям о своем знакомстве со Сталиным, который однажды поздно вечером приехал проведать ее отца: Дмитрий Николаевич Осорьин в то время тяжело болел. Тати – тогда ей было шестнадцать – проснулась от шума, взяла свечу и вышла в коридор в чем мать родила, как вдруг из темноты появился Сталин. Тати остолбенела от страха. Сталин смерил ее взглядом с головы до ног, хмыкнул и сказал, обращаясь к свите:
– Вот настоящее оружие массового поражения, а вы все талдычите: бомба, бомба…
И задул свечу.
– И вы были без ничего? – спросил кто-то.
– Как это без ничего? – Тати снисходительно улыбнулась. – А сиськи?
Хохот, фырканье и аплодисменты.
Даша и Нинон то и дело подносили откупоренные бутылки, лилось вино, кто-то читал стихи, кто-то пел под гитару, а кто-то попросту лапал женщин.
Николаша упивался этой атмосферой, этими разговорами, а мы с Борисом вскоре ускользали, чтобы в каком-нибудь тихом уголке сыграть партию в шахматы. Борис всегда выигрывал.
Когда много лет спустя я спросил Тати, как генерал КГБ Замятин относился к этим ее гостям, она ответила: «Однажды Саша сказал мне, что он разведчик, а не стукач, и больше мы никогда не возвращались к этой теме».
После школы мы поступили в университет – Николаша с Борисом на юридический, а я – на филологический, на кафедру русской литературы.
Мы знали, что Николаша пишет, но когда несколько рассказов двадцатилетнего студента-третьекурсника опубликовали в «Новом мире», это стало настоящей сенсацией. Рассказы были мастерские, блестящие, с чертовщинкой – о Николаше заговорили как о будущей звезде русской литературы.
Вскоре Николаша женился на красавице Алине, студентке театрального училища, о которой, впрочем, Тати как-то сказала: «Бросается в глаза, но не врезается в память». У них родился сын, которого назвали Ильей.
Жизнь с холодной и капризной Алиной скоро наскучила Николаше. Он много писал, рвал написанное и снова писал, после обеда спал, вечером сидел в плетеном кресле на террасе, потягивая вино, а Нинон прижималась к нему горячим своим телом, иногда испуганно вскидывая голову, если ей слышались чьи-то шаги.
Через год Нинон родила мальчика, которого назвала Митей.
В доме все, конечно, знали о том, кто отец ребенка, но никогда не говорили об этом вслух.
«Только Бог имеет право называть вещи своими именами, – сказала как-то Тати. – Но зато нас Господь наградил чудесным даром умолчания, намека и вымысла».
Еще одним даром Господним – и осорьинским богатством – она считала двусмысленность и шаткое равновесие жизни. И вот это шаткое равновесие было нарушено.
Николаша опубликовал повесть – критики подвергли ее форменному разгрому, обвинив автора в беспомощности и вторичности, а его прозу – в жеманстве, манерности и искусственности. «Автор попытался компенсировать нехватку жизненного опыта мастерством, но жизнь и на этот раз одержала верх над искусством», – так витиевато выразился самый благожелательный из критиков.
Николаша запил. Каждый день он ссорился с Нинон и Алиной, избегал разговоров с Тати. На ночь устраивался в летней беседке, скрытой от посторонних глаз пышными кустами жасмина.
Тати поручила Сироте присматривать за племянником, и каждую ночь старик, сняв сапоги, на цыпочках пробирался к беседке, чтобы утром сокрушенно доложить хозяйке, сколько и чего выпил Николаша. Тати курила и угрюмо молчала.
Однажды утром Николаша не проснулся: передозировка метаквалона, который он принимал с вином.
На похоронах обугленные от горя Алина и Нинон рыдали, обнявшись, но на поминках законная вдова устроила скандал и выгнала из-за стола незаконную, и Борису пришлось на руках отнести бившуюся в истерике Алину наверх, в спальню. Нинон плакала в кухне, повторяя: «Это она его отравила… она-она-она…» Все знали, что метаквалоном Николашу снабжала жена.
Не прошло и года, как Борис и Алина поженились. Свадьба была скромной, тихой, без гостей, если не считать меня. Алина напилась. Борис пожал плечами, взял бутылку шампанского и отправился к Нинон, с которой и провел первую брачную ночь. Но их общий ребенок – Ксения – появился только через десять лет.
Еще студентом я помогал Тати разбирать архивы. Это было богатейшее – во всех смыслах – собрание писем, рукописей, дневников, картин, антиквариата. Все это досталось ей от мужей и любовников.
Ее первый муж был полковником, собравшим огромную коллекцию старинных вещей. Тати прожила с ним чуть больше года: полковника расстреляли в тот же день, что и его патрона Берию, а тело растворили в бочке с серной кислотой.
Оставшись одна после смерти отца, матери и мужа, Тати стала любовницей Ивана Тверитинова. Сегодня его называют предтечей новейшего абстракционизма, работы его продаются за огромные деньги на международных аукционах, а в те годы экстравагантный художник зарабатывал на жизнь рисованием вывесок. Тати свела его со знатоками, в том числе с иностранцами, которые время от времени покупали у Тверитинова картины.
«У него я многому научилась, – сказала мне однажды Тати, – но по духу он был бродягой, а я жить не могла без этого дома».
После трагической гибели Тверитинова любовница перевезла все его работы на Жукову Гору, а его мастерскую – сарай на пустыре – сожгла, как и завещал художник.
На похоронах Тверитинова она встретила Константина Тарханова, одного из руководителей Союза писателей. Он стал первой ее любовью, а она – его последней.