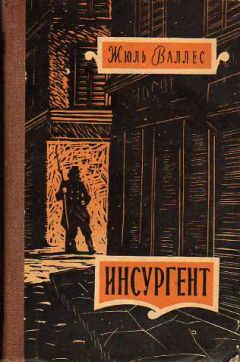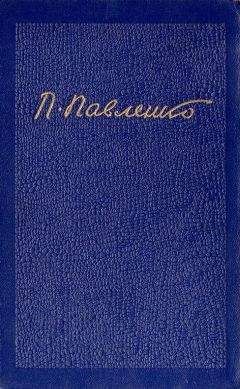Жюль Валлес - Инсургент
Мое прошение должно быть подкреплено рекомендациями... Придется нарушить еще одну клятву!
Все равно!
Приняв должность надзирателя коллежа, я уже тем самым стал клятвопреступником, и я снова буду им, выклянчивая подписи людей, пытавшихся уничтожить нас Второго декабря[9].
Несчастный! Вместо того чтобы завоевать себе место в жизни, я только потерял почву под ногами, зато нашел у себя несколько седых волос.
Готово! — Один гвардейский генерал, один книготорговец из Тюильри да бывший директор школы, где преподавал мой отец, дали мне рекомендации, по две строчки каждый.
Этого оказалось вполне достаточно, и вот я назначен регистратором на сто франков в месяц в мэрию, которая находится где-то у черта на куличках и имеет довольно жалкий вид.
Прихожу туда, поднимаюсь по лестницам и спрашиваю начальника канцелярии.
Меня принимает сутуловатый человек в очках.
— Хорошо. Вы будете вести запись новорожденных.
Он ведет меня в отдел актов гражданского состояния и передает какому-то чиновнику. Тот осматривает меня с ног до головы, знаком приглашает сесть и спрашивает, хорошо ли я пишу (!!).
— Не особенно.
— Покажите.
Я макаю перо в чернильницу, но погружаю его слишком глубоко и, вытаскивая, сажаю огромную кляксу на странице большой реестровой книги, лежащей перед этим человеком.
Он в диком отчаянии.
— Прямо на имя!.. Придется делать ссылку!
Он кидается к окну, высовывается наружу и, делая какие-то знаки, кричит.
Что такое? Он зовет на помощь? Чувствует приступ удушья? Или, быть может, хочет приказать арестовать меня?
Кто ему отвечает? Доктор? Полицейский комиссар?
Ни тот и ни другой. Это угольщик, виноторговец и акушерка. Пять минут спустя все они врываются в канцелярию и испуганно спрашивают, что случилось.
— А то, что вот этот господин начал свою службу с того, что измазал мою книгу, и теперь вам всем нужно будет расписаться на полях, чтобы ребенок сохранил свое звание.
Он в бешенстве повертывается ко мне.
— Вы слышите? Зва-ни-е! Знаете ли вы по крайней мере, что это такое?
— Да, я изучал право.
— Сомнительно! — говорит он, усмехаясь. — Все они одинаковы... Бакалавры — это гибель для реестров!
Раздается писк, стук грубых башмаков — и снова акушерка, угольщик и виноторговец.
Мой коллега ставит меня прямо перед лицом опасности.
— Опросите заявительницу.
Как взяться за дело? Что нужно говорить?
— Сударыня... вы по поводу ребенка?
Чиновник пожимает плечами и всем своим видом выражает безнадежность.
— А за каким чертом, по-вашему, ей было приходить сюда? Не сможете ли вы хотя бы констатировать... Удостоверить пол...
Удостоверить пол!.. Но как?..
Чиновник поправил очки и с изумлением уставился на меня, как бы спрашивая, не отстал ли я в развитии, или уж настолько наивен, что даже не знаю, как отличить мальчика от девочки.
Жестами даю ему понять, что знаю это прекрасно.
Он облегченно вздыхает и обращается к акушерке:
— Разверните ребенка. А вы, сударь, смотрите. Да подойдите поближе, оттуда вам ничего не видно!
— Это мальчик.
— Еще бы! — замечает с гордостью отец, подмигивая угольщику.
И вот я — кормилица или что-то вроде того.
Из вежливости мне приходится иногда помочь развязать тесемки, вынуть булавки, распеленать младенца и пощекотать ему шейку, когда он слишком раскричится.
К счастью, в пансионе Антетара я приобрел «навык», и скоро я прославился на весь район своей расторопностью, как некогда своим уменьем заправлять детские рубашонки. Честь мне и слава!..
Мои коллеги не блещут умом, но они неплохие люди. В них нет той закваски желчи и недовольства, что бродит в учительской среде, вечно завистливой, трусливой, шпионящей друг за другом.
Они не дают мне слишком сильно почувствовать мое ничтожество; мой коллега хмурился и брюзжал каких-нибудь два дня, не больше.
— Чему вас только учили в коллеже? Латыни? Но ведь она нужна лишь на то, чтобы служить мессу. Лучше научитесь делать нажим, тонкие и толстые штрихи букв.
И он показывает мне, как нужно делать хвостики готических букв и закругления, когда пишешь рондо. Мы даже остаемся иногда после окончания занятий, чтобы совершенствоваться в английском почерке, который дается мне с большим трудом.
Однажды через окно меня увидел старый товарищ, республиканец.
— Было время, ты устраивал восстания, а теперь выводишь прописные буквы!
Да! Но, покончив с прописными буквами, я свободен, — свободен до следующего дня.
Вечер в моем распоряжении, — мечта всей моей жизни! — а если встать пораньше, в одно время с рабочими, так можно еще два часа поработать со свежей головой, прежде чем идти удостоверять пол новорожденных.
Я распеленываю их, но и сам я тоже вышел из пеленок и смогу доказать всякому, кто усомнится, что я — мужчина.
Похороны Мюрже[10]Я отпросился, чтобы пойти на похороны Мюрже.
Хочу посмотреть на знаменитостей, которые сбегутся толпой, хочу послушать, что скажут на его могиле.
Похныкали, вот и все.
Говорили о любовнице и о собачке, которых покойный очень любил. Вплетали розы в воспоминания о нем, бросали цветы в яму, кропили гроб святой водой, — он верил в бога или был вынужден делать вид, что верит.
Процессию замыкал взвод солдат с ружьями, провожающий обычно тех, кто был награжден орденом Почетного легиона.
Покойный имел крест; это все равно, что медаль слепого, благотворительная контрамарка. Кавалеру ордена Почетного легиона не дадут подохнуть с голоду; если ему не повезет, — ему достаточно подвязать красной ленточкой свою славу, как подвязывают лошадиный хвост.
Задумчивым вернулся я домой и вдруг почувствовал, что все во мне содрогается от гнева. Но потребовалась еще целая неделя, прежде чем я понял, что шевельнулось во мне тогда. Теперь я знаю.
Это — моя книга, дочь моих страданий, шевельнулась у меня под сердцем, когда я стоял у гроба представителя богемы, которого после безрадостной жизни и мучительной агонии хоронили с большой помпой и прославляли на кладбище.
Так за работу же! Вы увидите, на что способен я, когда голод не разрывает моих внутренностей, точно рука деревенской повитухи, которая своими грязными ногтями пытается вырвать из чрева плод.
Я уцелел и напишу историю тех, кто погиб, — несчастных, так и не нашедших себе места в жизни.
И я буду считать, что достиг цели, если этой книгой посею возмущение так, что никто не заметит и не заподозрит, что под лохмотьями, которые я развешу, как в тюремном морге[11], скрыто оружие для тех, кто сохранил еще гнев в душе, кого не победила нищета.
Они выдумали мирную и трусливую богему, а я покажу им ее отчаявшейся и грозной.
III
Мрачно и уныло в моей тридцатифранковой комнатушке с «видом» на узкий, как кишка, двор, где над кучей мусора торчит голубятня. Оттуда доносится непрерывное, раздражающее меня воркование.
Я только и слышу, что эту надоедливую музыку да рыдания женщины, занимающей рядом со мной темный чуланчик, за который она никак не может заплатить хозяйке. И она все плачет, эта седая учительница... Она нигде не может устроиться и напрасно ищет уроков по десять су.
Несчастная! Как-то вечером я видел, как она за ту же цену предлагала свои старушечьи ласки служителям госпиталя Валь-де-Грас и приоткрывала кофточку, чтобы дать потрогать свою грудь.
Я хотел бы выбраться отсюда: мне кажется, что проникающий сквозь перегородку воздух отравляет мою мысль.
Но я вынужден остаться и даже не помышлять о перемене квартиры, иначе пропадут деньги, внесенные за две недели. Я регламентировал свою жизнь, — моя расходная книга здесь, рядом с книгой воспоминаний, — и бюджет мой незыблем. Мне остается только склониться над бумагой и заткнуть уши ватой, чтобы не слышать горьких всхлипываний старой учительницы и нежного воркования горлинок.
Одна из них часто прилетает на окно моей соседки за хлебом, накрошенным руками этой несчастной, — руками, сохранившими еще запах потных ласк санитаров...
В коллеже голубь был для нас птицей, которая олицетворяет собой наслаждение и гордо восседает на плече богини или поэта. Здесь же он охорашивается под окном потаскушки и точит свой клюв о ее окно. Gemuere раlumbae[12].
Я встаю в шесть часов утра, укутываю ноги остатками своего пальто, — с пола несет холодом, — и пишу до момента ухода в мэрию.
С пяти часов я снова за работой, но не позже как до восьми. Мне страшно оставаться вечером в этой конуре на улице Сен-Жак, недалеко от перекрестка, где прежде действовала гильотина, поблизости от военного госпиталя, почти рядом с приютом для глухонемых. Поистине невеселое окружение!