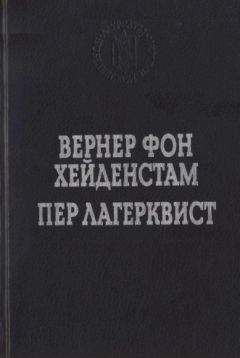Пер Лагерквист - В мире гость
Ну а потом началась настоящая игра. Старшие мальчики хлопали одну из девочек по спине и бросались за деревья. Это были пятнашки, или салочки. Они носились под каштанами и кленами, среди кустов бузины, где землю не взрыхляли, и потому можно было сколько угодно ее топтать. Они в мгновенье ока обегали весь парк; потные, запыхавшиеся, на бегу хватались за ветку и бежали дальше; девочки быстрей уставали, чаще «водили», но, отдышавшись, тотчас же припускали снова.
Вот неожиданно всей гурьбой они выбежали к площадке кафе. И, с трудом переводя дух, замерли на подводящих к ней тропках, забыв об игре. Просто удивительно, до чего же переменилось днем это место. Столики стояли пустые, заляпанные, противно пахли подсыхающим на солнце пивом и пуншем, под ними валялись спички и жеваные окурки, рядом кого-то вырвало. Эстрада заброшенно, покинуто зияла скелетами пюпитров в углу и обвисшими клочьями звездного неба. Ни радости, ни праздника. Нет, днем тут совсем не интересно.
Они вернулись к прерванной игре, «салочка» гнал перед собой остальных, как стадо испуганных овец, забивавшихся в кусты; из-за стволов неслись отчаянные девчачьи взвизги. И опять они разбежались по всему саду, горланя на солнцепеке.
Но самый маленький, Андерс, не побежал за всеми. Да он и не умел так быстро бегать. Он остался возле садового кафе, не в силах оторвать глаз от этой картины запустенья. На том самом месте, где вечерами так неописуемо красиво, — и вдруг такая грязь и тоска. Непонятно. Он-то верил, что все взаправдашнее — и небо в блестящих звездах, и музыканты, непонятные, как ангелы, и музыка, такая замечательная, что в нее даже страшно вслушаться. Все это еще стояло в памяти. И вдруг ничего не осталось, и ничего узнать нельзя. Как же так все исчезает, и остаются только тоска и пустота?
Ему стало страшно и грустно, даже трудно дышать. И почему он вдруг замерз, ведь солнце печет вовсю?
Потерянно глядя в землю, он зашагал прочь. Крики братьев и сестер неслись со всех сторон, но ему не хотелось к ним. Он брел один, не зная, что с собою делать. Потом он сел прямо на широкую, пересекавшую сад дорожку, она была плотно усыпана гравием, а на другие гравия, видно, не хватило, из-под него сквозила черная земля. Одну ногу он засыпал песком, утрамбовал песок руками, а когда поднял ногу, на дорожке получился целый погреб, в таком погребе можно держать картошку или еще что-нибудь, что надо долго хранить. Он сделал еще несколько погребов, работа шла быстро, он очень старался. Потом он уселся поудобней и стал копать настоящую большую яму. Разгребал ее пальцами, глубже, глубже, песок стал тонкий и мокрый, а яма — узкой, так что пальцы в ней уже почти не помещались. Работа так поглотила его, что он не слышал и не видел, как к нему приблизился хозяин кафе, до тех пор, пока тень от круглого брюшка не упала на ямку. Хозяин кафе был добрый старик, но дети относились к нему с чрезвычайной робостью, полагая, что все вокруг — его владенья; на самом же деле владенья его были невелики, потому что он всего-навсего арендовал парк на десять лет, и просто срок не вышел покуда. Он покачал головой и поиграл часовой цепочкой, широкой дугой лежавшей на его жилете.
— Этого делать нельзя, — сказал он. И помягче добавил:
— Когда маленькие дети копают ямы, значит, кто-нибудь у них дома умрет.
Другим бы детям он просто и напрямик запретил, но этому, совсем малышу, надо было дать какое-то объяснение.
Андерс поднялся, бледный от ужаса. С застывшим лицом он не отрываясь смотрел на яму, потом бросился на колени и принялся ее засыпать.
Старику поведение мальчика показалось странным, он вынул из кармана кулек карамелек, он любил детей и обычно носил с собой что-нибудь сладкое, конфета — это все-таки конфета. Андерс дрожащей рукой взял протянутую ему большую липкую карамельку. Но, поклонившись в знак благодарности, он тут же пустился бежать по траве, задевая за кусты, к дому.
Кто же умрет? Кто умрет? Неужели мама? Или он сам? Нет, сам он еще маленький, он пока еще не умрет. А мама такая бледная и часто жалуется, что устала. Из официанток никто не умрет, они все такие здоровые и сильные. Нет, конечно, это мама. Ой, неужели мама!
Он бросился в траву, вскочил, побежал снова.
Ох, да это же папа! Это папа! Он переводит поезда с пути на путь! Его задавит! Конечно, это папа! Теперь понятно!
Он побежал к своим. Оставаться одному ему стало невмоготу. Но их не было слышно. А, ну да, они там, у боярышника. Он взобрался вверх по холму, бледный и запыхавшийся, упал прямо в объятья к Сигне.
Остальные почти ничего не заметили, только, что он бежал со всех ног. Сигне сразу взяла его на руки.
— Что это с тобой? — пытала она.
Он не мог слова выговорить. Он уже заметил, что кое о чем говорить нельзя, все равно не получится, лучше уж терпеть и молчать. И он молча жался к Сигне.
Остальные тем временем, повиснув на заборе, смотрели на станцию. Там был отвесный спуск, там взорвали холм, чтоб провести колею.
— Ой, — крикнул Хельге, старший. — Вон папа!
И все его увидели — он стоял на подножке паровоза, крепко держался за поручень одной рукой, а другой им махал. Сигне как можно выше подняла Андерса. Вот отец спрыгнул с подножки и полез под буфера, не дожидаясь, пока остановится поезд. Андерс замер. Вот отца не видно, его уже долго не видно. Сигне стало больно, так крепко вцепились руки Андерса в ее шею. Но наконец-то отец появился, дал сигнал машинисту, и состав пошел на запасный путь.
Сестра спустила Андерса наземь. Его била дрожь.
— Правильно, — сказал самый старший, все еще сидя на заборе, — там они и будут стоять, пока Юханссон не погрузит их досками. Ну а теперь куда? — и он соскочил вниз.
И все стали хором, наперебой, решать, куда теперь идти.
— Мне надо домой, маме немножко помочь, — сказала Сигне. И взяла Андерса за руку, чтоб повести с собой.
И они пошли вдвоем прочь от остальных. По траве, мимо поляны, куда громом доносилось уханье паровоза. Откуда ни возьмись им навстречу попался запыхавшийся толстяк в жилете, со стаканом в руке.
— У черт, ну и погодка, — сказал он, — добрый день, детки. Они шли молча. Сигне чувствовала, как еще дрожит его рука, но не знала, отчего. Так они прошли под деревьями, дошли до садовой калитки.
Тут сестра остановилась.
— Андерс, на тебе счастье, — сказала она. И вытащила цветок из кармана фартука. Он смялся, облип крошками, но она на него подула, и он расправился и отряхнулся.
— Как же, это ведь твое, — сказал он.
— Ой, ну что ты! Да бери, бери. Я столько их нахожу. Он сунул цветок в рот и затих, добросовестно жуя Сигнино «счастье».
* * *Было в союзе Сигне с матерью что-то необычайное. Это кидалось в глаза всякому, кто видел, как они хлопочут по дому, а хлопотали они непрестанно. Они словно жили одной какой-то общей жизнью, не такой, как у других, а лучше. Обе были тем центром, к которому теснились все остальные, источником, питавшим всех. Не покладая рук возились они на кухне, в комнатах, мыли посуду, стирали пыль, а то лущили в саду горох, а вечером по субботам начищали ножи. И дом жил и дышал их заботой. Всех в семье объединяло доверие и близость, отгораживающие от остального мира, но все это не шло в сравненье с теми узами, что связывали их двоих. Они представляли собой какое-то нерасторжимое целое, и различие их состояло лишь в том, что одна была гораздо моложе другой. Это были звенья одной цепи, нескончаемой цепи, потому-то так и устроилось, что одна уже поблекла и устала под тяжестью материнских забот, а другая только вступала в жизнь. И вот на короткое время оба звена существовали совместно и радовались этому. Сами они вовсе не ощущали исключительности своей роли и как ни в чем не бывало болтали про всякую всячину и с самым будничным видом.
Вот сегодня, например, они затеяли стирку. Стирка дело нехитрое и обычное. Обе быстро и ловко складывают в кучку отжатое белье, сливают воду, наливают опять, бегают за синькой, вешают чулки сушиться прямо на окно, тем временем переговариваются, прыскают и, вставши за стиральные доски, снова углубляются в работу. Сигне — кругленькая девчушка, с умным не по годам личиком, веселая и смешная. Волосы у нее густо кучерявятся, глаза блестят. Она вся вспотела. Она так истово трет белье, что над лоханью взлетают хлопья пены. От старательности она даже голову наклонила к самому плечу, щеки покраснели, на кудряшках каплями оседает пар.
— Ой, мамочка, — говорит она, распрямляясь, — смотри-ка. Линяет!
— Ну и ну! — говорит мать. — В жизни такого не видывала. Только б на другое не перешло.
— Ой, что ты, мама! Видишь, тут белое уже закрасилось. Мама, мама, что же теперь будет?
— Вот уж незадача! Не вынуть ли? Ну и ну. Делать нечего, попробуем прокипятить, может, и отойдет!
— Ой, ой! Что натворили-то! Как же это мы так!
Так они поговорили еще некоторое время. И снова склонились над корытами, полоскали, отжимали.