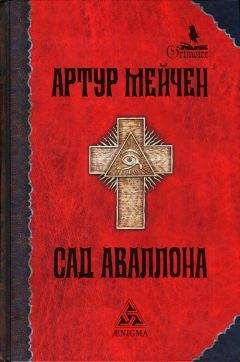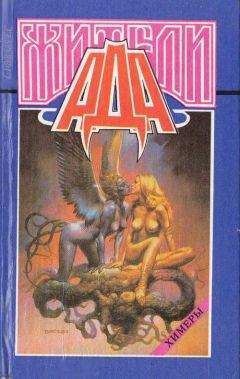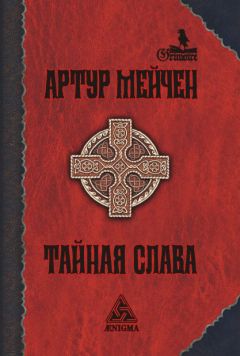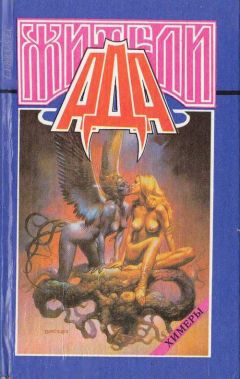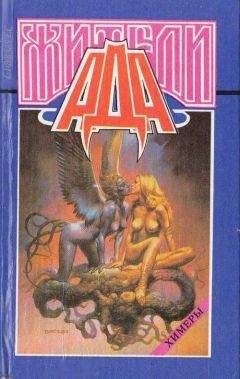Артур Мейчен - Тайная слава
Раздевшись, Дарнелл осторожно забрался в постель, задув свечу на столике. Жалюзи были по всей длине аккуратно опущены, но стояла июньская ночь, и за стенами, над этим одиноким миром, над запустением Шепердз-Буш плыла над холмами в волшебной дымке облаков огромная золотая луна, окрашивая землю чудным светом — чем-то средним между багряным закатом, зацепившимся за вершину горы да так и оставшимся там, и тем изумительным сиянием, что, ниспадая с холмов, пронизывает лес. Дарнеллу казалось, что он видит слабое отражение этого колдовского света в их спальне — на светлых стенах, на белой кровати и на лице жены в обрамлении каштановых кудрей; ему чудилось, что он слышит коростеля в полях, и странную песнь козодоя, доносящуюся из тишины тех диких мест, где растут папоротники, и трель соловья, звучащую как эхо волшебной мелодии, соловья, поющего всю ночь напролет на ольхе у ручья. У Дарнелла не было слов, чтобы выразить свои чувства, он только осторожно высвободил руку из-под шеи жены и стал перебирать ее каштановые локоны. Она не шевелилась, а просто лежала, неслышно дыша и уставившись в потолок своими прекрасными глазами, и в голове ее, несомненно, тоже бродили мысли, которые она не умела выразить в словах. Она послушно целовала мужа, когда он просил ее об этом, заикаясь от волнения.
Они почти погрузились в сон, во всяком случае, Дарнелл уже засыпал, когда жена тихо произнесла:
— Боюсь, дорогой, мы не сможем себе этого позволить. — Эти слова донеслись до него сквозь журчание воды, стекающей с темной скалы вниз, в кристальный водоем.
Воскресное утро всегда давало возможность слегка понежиться. Они, похоже, остались бы без завтрака, если бы миссис Дарнелл, в которой был силен инстинкт домашней хозяйки, не проснулась от яркого солнечного света с ощущением, что в доме подозрительно тихо. Минут пять она лежала неподвижно подле спавшего мужа, внимательно прислушиваясь, не копошится ли внизу Элис. Сквозь жалюзи пробивался золотой луч солнца, он играл на ее каштановых локонах, а сама миссис Дарнелл созерцала комнату — обтянутый атласом туалетный столик, разноцветные туалетные принадлежности и две фотогравюры, висевшие на стене в дубовых рамках: "Встреча" и "Расставание". Не до конца проснувшись, она старалась расслышать, ходит ли внизу служанка, но вдруг какое-то смутное воспоминание всплыло в ее сознании, и ей на мгновение представился другой мир, где все пьянило и приводило в экстаз, где можно было беспечно бродить в глубоких долинах, а луна над лесом была багрового цвета. Тут мысли миссис Дарнелл вновь вернулись в Хэмпстед[4], который воплощал для нее весь мир, а потом она подумала о плите, что вернуло ее мысли к выходному дню и, соответственно, — к Элис. В доме стояла полная тишина; можно было бы подумать, что ночь все еще продолжается, если б неожиданно тишину не разорвали протяжные крики продавцов воскресных газет, начавших своеобразную перекличку на углу Эдна-Роуд; тогда же, одновременно с их гвалтом, раздалось сначала упреждающее звяканье, а потом послышался зычный крик молочника, развозившего свой товар.
Миссис Дарнелл села в постели и, теперь уже полностью проснувшись, прислушалась более внимательно. Служанка, несомненно, крепко спала; ее следовало поскорее разбудить, иначе в дневном распорядке произойдет непоправимый сбой; миссис Дарнелл знала, как ненавидит Эдвард суету и разговоры о хозяйстве — особенно по воскресеньям, после утомительной рабочей недели в Сити. Она бросила нежный взгляд на спящего мужа: она очень сильно его любила, и потому тихонько, стараясь его не разбудить, выбралась из кровати и прямо в ночной рубашке пошла будить служанку.
В комнате у служанки было душно: ночь была очень жаркой; миссис Дарнелл остановилась на пороге, задавая себе вопрос: кто та девушка, что лежит здесь на кровати? Чумазая служанка, которая день-деньской копошится по дому, или то чудом преобразившееся создание, наряженное в яркую одежду, с сияющим лицом, которое появляется воскресным днем, когда приносит чай чуть раньше, потому что у нее "свободный вечер"? У Элис были черные волосы и бледная, оливкового оттенка кожа, и сейчас, когда она спала, положив голову на руку, то чем-то напомнила миссис Дарнелл ту удивительную гравюру "Уставшая вакханка", которую она давным-давно видела в витрине на Аппер-стрит в Ислингтоне[5]. Раздался надтреснутый звон колокола; это означало, что уже без пяти восемь, а ровным счетом ничего не сделано.
Она мягко коснулась плеча девушки и только улыбнулась, когда та открыла глаза и, моментально проснувшись, смущенно поднялась. Миссис Дарнелл вернулась к себе и неторопливо оделась, пока муж еще спал. Только в последний момент, застегивая лиф вишневого платья, она разбудила мужа словами, что, если он не поторопится, бекон пережарится.
За завтраком они вновь обсуждали, что делать с пустой комнатой. Миссис Дарнелл заверила мужа, что целиком поддерживает его план, хотя не представляет, как его можно осуществить, истратив всего десять фунтов; будучи людьми благоразумными, они не собирались посягать на сбережения. Эдварду неплохо платили: в год он зарабатывал (с учетом надбавок за сверхурочную работу) сто сорок фунтов; Мери же унаследовала от старого дядюшки, ее крестного отца, триста фунтов, которые супруги предусмотрительно положили в банк под четыре с половиной процента годовых. Так что их годовой доход, считая и подарок тети Мэриан, составлял сто пятьдесят восемь фунтов в год; к тому же у них не было никаких долгов: мебель для дома Дарнелл купил на деньги, которые когшл лет пять-шесть до женитьбы. В первые годы работы Дарнелла в Сити доход его был, разумеется, меньше, да тогда он и жил гораздо легкомысленнее, ничего не откладывая на черный день. Его тянуло в театры и мюзик-холлы, и он редкую неделю не посещал их (беря билеты в партер), иногда покупая фотографии понравившихся актрис. Обручившись с Мери, он торжественно сжег эти фотографии; тот вечер ему хорошо запомнился: сердце его переполняли радость и восторг. Когда на следующий день он вернулся домой из Сити, квартирная хозяйка горько жаловалась на обилие грязи в камине. И все же деньги были потеряны — десять-двенадцать шиллингов, насколько он помнил; и это не давало ему покоя: ведь, отложи он их, они быстрее купили бы восточный ковер изумительной расцветки. В юности он позволял себе и другие траты, покупая сигары за три или даже за четыре пенса — за четыре пореже, но за три довольно часто; иногда он покупал сигары поштучно, а иногда в упаковке по двенадцать штук, платя полкроны. Однажды он шесть недель мечтал о пенковой трубке; хозяин табачной лавки извлек ее из ящика стола с таинственным видом в то время, когда Дарнелл покупал пачку "Лоун стар". Тоже бессмысленная трата — покупка американского табака, всех этих "Лоун стар", "Лонг Джадж", "Оулд Хэнк", "Салтри Клайм" по цене от шиллинга до шиллинга и шести пенсов за пачку в две унции. Теперь же он покупал отличный табак всего за три с половиной пенса за унцию. Тогда же хитрый торговец, приметив склонность Дарнелла к дорогим модным товарам, быстро выдвинул ящик и открыл его восхищенному взору пенковую трубку. Чашеобразная ее часть была вырезана в виде женской фигурки — головки и торса, а мундштук изготовлен из настоящего янтаря; торговец сказал, что отдаст трубку всего за двенадцать шиллингов и шесть пенсов, хотя один янтарь, по его словам, стоил больше. Никому, кроме постоянных покупателей, сказал продавец, он не показал бы эту трубку, ему же он готов продать ее по дешевке. Сначала Дарнелл боролся с искушением, но трубка не шла у него из головы, и наконец он ее купил. Какое-то время ему нравилось похваляться ею в офисе перед более молодыми сотрудниками, но трубка плохо раскуривалась, и он расстался с ней как раз перед женитьбой — тем более, что само резное изображение не позволяло курить трубку в присутствии жены. Однажды, отдыхая в Гастингсе, Дарнелл купил за семь шиллингов тросточку из ротанга — абсолютно бесполезную вещь; а как часто он отказывался есть жареную котлету, которую готовила хозяйка, и отправлялся flaner[6] по итальянским ресторанам на Аппер-стрит в Ислингтоне (сам он жил в Холлоуэе), ублажая себя разными дорогими лакомствами: котлетками с зеленым горошком, тушеной говядиной под томатным соусом, вырезкой с картофелем фри, и часто заканчивал пиршество кусочком швейцарского сыра за два пенса.
А получив прибавку к жалованью, он выпил четверть бутылки кьянти, но не остановился на этом, а заказал себе бенедиктин, кофе и сигареты; это и без того постыдное мероприятие он завершил, дав шесть пенсов на чай официанту, что довело расходы до четырех шиллингов вместо одного, который он бы потратил, если б предпочел съесть дома полноценный и сытный ужин. Да, Дарнелл позволял себе много экстравагантных выходок, о чем теперь часто жалел, понимая, что, веди он себя поосмотрительнее, годовой доход у них с женой вырос бы на пять-шесть фунтов.