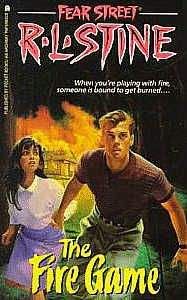Мария Пуйманова - Люди на перепутье. Игра с огнем. Жизнь против смерти
Так же как исторические события предстают у Пуймановой как бы по-домашнему, без всякой торжественности и официальности, так и ее герои начисто лишены помпезности и патетичности. Пуймановой лучше всего удается своего рода «будничный героизм». И в этом есть что-то глубоко национальное. Писательница не раз говорила о свойственной чехам нелюбви к громкой фразе, к красивому жесту, к внешнему пафосу, о том, что чехи стыдятся громких слов и даже подвиги совершают, не теряя юмора и трезвой деловитости. Читая последнюю часть трилогии, невольно вспоминаешь слова Фучика: «Смерть проще, чем мы думаем, и у героизма нет лучезарного ореола…» Наиболее полно эти национальные свойства выразились в характере Елены, с ее неприязнью к сентиментальности, с ее искрящимся юмором и мужеством, особенно разительно проявившимся в главе «Выше голову!», где повествуется о казни Еленки и других бойцов-антифашистов.
Однако Пуйманова мастерски изображает человеческий характер не только в «пограничных ситуациях». Более всего она любит показывать человека в деянии. С одинаковым увлечением она рассказывает о труде-творчестве врача Елены, которая упорно борется за жизнь столетней старухи, актрисы Власты Тихой, стремящейся проникнуться духом новой роли, или ткача Ондржея, различающего по звуку работу любого станка в своем цехе. Пуйманова воссоздает рабочую атмосферу в ткацком цехе через восприятие Ондржея, зачарованного царством машин, и восторг подростка вносит смысл и поэзию в эту симфонию труда. Много лично пережитого вкладывает Пуйманова в творческие искания Станислава Гамзы. С подлинной глубиной она раскрывает психологию творческого процесса: превращение впечатления в образ, стремление художника отобрать, осмыслить, найти сущность. И чем глубже постигает Станя новую, всегда неожиданную действительность, тем более ему доступен становится «эпический» взгляд на мир и тем мельче кажется собственная любовная драма, которая еще недавно представлялась катастрофой. Процесс творчества у Пуймановой — всегда процесс духовного оздоровления.
У Пуймановой есть своя концепция человеческой активности. Прежде всего она осуждает индивидуалистическое самоутверждение любой ценой. В этом смысле очень важен образ Казмара. Буржуазная пропаганда на все лады рекламировала его прототип — обувного короля Батю — как хрестоматийный пример бедняка, благодаря своей энергии и таланту достигшего безграничного богатства и могущества; интеллигенция превозносила его как своеобразное воплощение идеала «сверхчеловека». Пуйманова не отказывает своему Казмару в известном обаянии, отмечает его незаурядную волю и талант организатора, но она безжалостно вскрывает и изнанку его активности. Казмар изображен чаще всего сквозь призму восприятия Ондржея, сначала буквально влюбленного в хозяина, но постепенно со все большей ясностью осознающего истинный смысл казмаровской системы и безграничную жестокость самого хозяина. В подлинно зловещем свете бешеная активность Казмара выступает в сцене его гибели. Казмар, как и реальный Томаш Батя, разбивается во время авиационной катастрофы. Но писательница вводит в роман детали, поднимающие это происшествие над обычной случайностью: улецкий король настоял на полете в нелетную погоду, боясь пропустить военные заказы в первый день мобилизации осенью 1938 года. Бесславный конец одного из «некоронованных королей республики» как бы символизирует крах ее показного благополучия. За этой главой тотчас следует проникнутый болью и горечью рассказ об исторических событиях 1938–1939 годов.
Своеобразной параллелью к образу Казмара является история «головокружительной» карьеры сестры Ондржея Ружены Урбановой. И она поднимается с самого низа социальной лестницы до самых ее верхних студеней, проявляя немалую активность и ловкость. Типичны все метаморфозы Ружены, начавшей свою карьеру в качестве скромной маникюрши, умиравшей от желания попасть в «хорошее общество», купившей это «счастье» ценой брака с «отвратительным стариканом» Хойзлером и в конце концов нашедшей полное осуществление своих «честолюбивых» мечтаний в любовных связях с фашистскими офицерами.
Суетливой, напористой активности хищников противопоставлена иная деятельность — творческая и общественная. У Пуймановой нет сомнения, что человек может постичь направление общественного развития и его действия могут послужить осуществлению больших исторических целей. Но это не дано изолированной, одинокой личности, руководствующейся только индивидуалистическими стремлениями.
Вера в человека пронизывает самые трагические страницы трилогии. Ее герои — не одинокие существа, а частицы огромной силы народа. Эту связь вдруг почувствовал Ондржей, когда он решил заступиться перед грозным Казмаром за уволенную работницу. Та же невидимая связь придает мужество Нелле в самые страшные минуты ее жизни. И отчаявшийся, потерявший в жуткой атмосфере протектората вкус к жизни Станислав распрямляется и оживает, почувствовав протянутые руки, которые помогают ему не только ожить, но и начать бороться.
Вера Пуймановой в целесообразность и перспективность человеческой активности проявляется и в том, какой смысл она придает идее живой смены поколений.
Проблема поколений решается в европейском романе, как известно, по-разному. Так, Золя изображает вырождение биологическое, Горький в «Деле Артамоновых» — социальное, а Томас Манн в «Будденброках» — духовную деградацию семьи собственников. В центре внимания Пуймановой — преемственность прогрессивных идеалов (здесь она перекликается с романом А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми»): Елена продолжает дело Гамзы; ее сын, маленький Митя, рвется принять участие в опасной подпольной борьбе родителей, а юный студент, вырвавшийся из лагеря, где погиб Гамза, приходит к Нелле и передает его завет.
Нередко говорят, что автор романа-эпопеи обычно выступает как всеведущий и безликий демиург, который незримо управляет созданным им миром. Этого никак не скажешь о трилогии Пуймановой. Личность автора постоянно присутствует в повествовании. Это мудрый, честный, любящий людей человек, искренне ищущий истину. Живой облик писательницы с ее чисто женской непосредственностью, добротой, неподражаемым лукавством, тонкой наблюдательностью дает себя чувствовать на протяжении всей трилогии: авторское «я» проявляется и в публицистическом комментарии (особенно во второй и третьей частях), и в эмоциональных отступлениях, и в лирических пейзажах, и в особой окраске несобственно прямой речи. Вообще стихия лиризма объединяет стилевые элементы трилогии, придает повествованию ту поэтичность, которая позволяет чехословацким исследователям говорить о «поэтическом реализме» Пуймановой. Для нее характерно то, что она сама называет свежим, незамутненным видением мира, — умение посмотреть на каждую вещь как будто впервые, увидеть ее с какой-то новой стороны и в то же время сказать о ней нечто существенное. Отсюда же и сходство ее пейзажей с омытыми солнечным светом и чуть отстраненными пейзажами импрессионистов, в которых действительность предстает в сиюминутной свежести и непосредственности.
В то же время стилю Пуймановой при всей его эмоциональности враждебна идеализация, риторичность или идиллическая сентиментальность. Надежная гарантия против всего этого — никогда не покидающее писательницу чувство юмора и меры, нечто такое, что можно было бы назвать здравым смыслом в повествовании. Иронический подтекст нередок и в авторском тексте, и в несобственно прямой речи. Сочувственная ирония сопровождает самых милых сердцу автора героев: Неллу, Еленку, Станислава, Ондржея, она аккомпанирует повествованию об их разочарованиях и заблуждениях. Порой именно ирония помогает раскрыть сложность и противоречивость человеческих чувств. Но ирония меняет свой характер, становится злой, когда Пуйманова рассказывает, например, о супругах Хойзлер, легко нашедших общий язык с оккупантами, или чуть грустной, когда речь заходит о печальной «улецкой принцессе» Еве Казмаровой, или грустном скептике Розенштаме, в которого безнадежно влюблена робкая и некрасивая наследница миллионов.
Кроме непосредственной авторской речи, элемент самовыражения проявляется, как мы уже говорили, и в обрисовке таких персонажей, как Нелла или Станя. Чешские исследователи установили, что в трилогии нашли себе место и другие глубоко личные впечатления и воспоминания писательницы. Так возникает та неповторимо пуймановская манера, которая составляет очарование и поэтичность трилогии.
Способы художественного воплощения самых широких пластов действительности в трилогии чрезвычайно гибки и разнообразны. Впрочем, иногда в последней части Пуйманова как будто перестает доверять испытанному методу, и тогда в некоторых главах «Жизни против смерти» абстрактная логика заменяет индивидуальную логику развития образа. Тут на смену драматическому изображению приходит порой статичное описательство (это относится к некоторым моментам изображения советской действительности, которая была недостаточно хорошо известна писательнице); лирическая авторская речь, полная тепла, юмора и лиризма, вдруг уступает место деловому пересказу, и на страницах романа появляются схематичные персонажи. В этом смысле трилогия Пуймановой отразила и большие успехи в развитии чешского романа, и те трудности, которые ему пришлось пережить. Сама Пуйманова признавалась, что при создании «Жизни против смерти» историк, стремившийся благоговейно передать все, что хранится в народной памяти, иногда вступает в конфликт с художником. Пуйманова действительно становится жертвой той «жадности» к новому, необычайно привлекательному для художника историческому материалу, которая заставляет ее, как и многих других писателей, включать хотя бы в виде простого пересказа то, что не удается в пределах романа воспроизвести художественно.