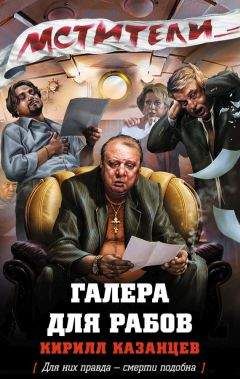Ги Мопассан - Наследство
Покончили с жарким. Сезар бережно открыл горшочек с гусиной печенкой, и торжественность, с какой он это сделал, позволяла судить о совершенстве содержимого. Он заметил:
— Не знаю, окажется ли паштет удачным. Мы получаем его от двоюродного брата из Страсбурга, и обычно он бывает превосходен.
И все с почтительной медлительностью принялись за это кушанье в желтом глиняном горшочке.
С мороженым произошла беда. В компотнице плескалась какая-то светлая жидкость — не то соус, не то суп, ибо служанка, опасаясь, что не сумеет справиться сама, попросила кондитера, явившегося к семи часам, вынуть мороженое из формы.
Расстроенный Кашлен распорядился его убрать, но тут же утешился, вспомнив о праздничном пироге; он стал разрезать его с таким загадочным видом, словно в нем заключалась величайшая тайна. Все взоры устремились на этот символический пирог; каждому полагалось отведать его, выбрав кусок с закрытыми глазами.
Кому же достанется боб? Глуповатая улыбка блуждала у всех на устах. Вдруг у Лезабля вырвалось изумленное: «Ах!» — и он показал крупную белую фасолину, еще облепленную тестом, держа ее двумя пальцами. Кашлен захлопал в ладоши и закричал:
— Выбирайте королеву! Выбирайте королеву!
Король мгновение колебался. Не сделает ли он удачный дипломатический ход, избрав мадмуазель Шарлотту? Она будет польщена, побеждена, завоевана. Но он тут же рассудил, что пригласили-то его ради Коры, и он будет глупцом, если выберет тетку. Поэтому, обратившись к своей юной соседке, он сказал:
— Мадмуазель, разрешите предложить вам этот боб.
И вручил ей знак королевского могущества. Впервые они взглянули в глаза друг другу. Она ответила:
— Спасибо, сударь! — и приняла из его рук этот символ власти.
«А ведь она хороша, — подумал Лезабль, — глаза у нее чудесные. И что за плутовка, черт подери!»
Звук, похожий на выстрел, заставил подскочить обеих женщин. Кашлен откупорил шампанское, и жидкость неукротимой струей полилась из бутылки на скатерть. Наполнив бокалы пенистой влагой, хозяин заявил:
— Сразу видно, что шампанское лучшей марки.
А так как Лезабль торопился отпить из своего бокала, опасаясь, что вино перельется через край, Кашлен воскликнул:
— Король пьет! Король пьет!
И, развеселившись, старушонка тоже взвизгнула писклявым голоском:
— Король пьет! Король пьет!
Лезабль уверенно осушил бокал и, поставив его на стол, заметил:
— Как видите, я не сплоховал.
Затем, обратившись к Корали, он сказал:
— Теперь дело за вами, мадмуазель!
Кора пригубила вино, но тут раздались возгласы:
— Королева пьет! Королева пьет!
Она покраснела и, засмеявшись, отставила свой бокал.
Конец обеда прошел очень весело. Король усердно ухаживал за королевой. После десерта и ликеров Кашлен объявил:
— Сейчас уберут со стола, и станет просторней. Если нет дождя, можно побыть на балконе.
Было уже совсем темно, но Кашлену очень хотелось показать гостю вид, открывавшийся сверху на Париж.
Отворили застекленную дверь. Повеяло сыростью. Воздух был теплый, словно в апреле, и, перешагнув через порожек, все вышли на широкий балкон. Можно было различить только туманное сияние, реявшее над огромным городом подобно лучистому венчику, какие рисуют над головами святых. Кое-где свет казался более ярким, и Кашлен принялся объяснять:
— Глядите, вон там сверкает Эден. А вот вереница бульваров. Их сразу отличишь! Днем отсюда открывается великолепный вид! Сколько ни путешествуй, лучше не увидишь.
Лезабль облокотился на железные перила рядом с Корой, которая молчаливо и рассеянно глядела в темноту, внезапно охваченная тоскливым томлением, порой наполняющим душу. Мадмуазель Шарлотта, опасаясь сырости, вернулась в столовую. Кашлен продолжал разглагольствовать, указывая рукой, где находятся Дом инвалидов, Трокадеро, Триумфальная арка на площади Звезды.
Лезабль спросил вполголоса:
— А вы, мадмуазель Кора, любите смотреть отсюда на Париж?
Она вздрогнула, словно очнувшись, и ответила:
— Я?.. Да, особенно по вечерам. Я думаю обо всем, что происходит там, внизу. Сколько счастливых людей и сколько несчастных в этих домах! Как много бы мы узнали, если б все могли увидеть!
Он придвинулся к ней, так что их плечи и локти соприкасались.
— При лунном свете зрелище, должно быть, волшебное.
Она сказала очень тихо:
— О да! Словно гравюра Гюстава Доре[2]. Какое было бы наслаждение подолгу бродить по этим крышам!
Лезабль стал расспрашивать Кору о ее вкусах, заветных желаниях, радостях. Она отвечала без всякого стеснения, как разумная, рассудительная и не слишком мечтательная девушка. Лезабль обнаружил в ней много здравого смысла, и ему вдруг захотелось обвить рукой этот полный упругий стан и медленно, короткими поцелуями, словно маленькими глотками, как смакуют хорошее вино, впивать свежесть этой щечки, вот здесь, у самого ушка, на которое падал отсвет лампы. Он почувствовал влечение, взволнованный этой близостью, охваченный жаждой созревшего девственного тела, смущенный нежной прелестью юной девушки. Он готов был долгие часы, ночи, недели, вечность вот так, облокотившись, стоять рядом, ощущая ее подле себя, проникнутый очарованием ее близости. Что-то похожее на поэтическое чувство зашевелилось в его душе перед лицом громадного, раскинувшегося внизу Парижа, озаренного огнями, живущего своей ночной жизнью — жизнью разгула и наслаждений. Ему чудилось, что он владычествует над великим городом, что он реет над ним; и он подумал, как восхитительно было бы стоять так каждый вечер, облокотившись на перила балкона, подле прекрасной женщины, и любить друг друга, и целовать друг друга, и сжимать в объятиях друг друга здесь, в вышине, над громадным городом, над всеми любовными страстями, в нем заключенными, над всеми грубыми наслаждениями, над всеми пошлыми желаниями, — здесь, в вышине, под самыми звездами.
Бывают вечера, когда наименее восторженные люди предаются мечтам, словно у них выросли крылья. А может быть, он был немного пьян.
Кашлен, уходивший за трубкой, вернулся на балкон и закурил.
— Я знаю, что вы не курите, поэтому и не предлагаю вам сигарет, — сказал он. — Нет ничего лучше, чем подымить немножко тут, наверху. Если б мне пришлось поселиться внизу, для меня это была бы не жизнь. Ведь мы могли спуститься и ниже, — дом-то принадлежит сестре, да и оба соседние тоже, вон этот налево и тот направо. Они приносят ей порядочный доход. А в свое время они достались ей по недорогой цене.
И, повернувшись в сторону столовой, он крикнул:
— Шарлотта, сколько ты заплатила за эти участки? Визгливым голосом старуха затараторила. До Лезабля доносились лишь обрывки фраз:
— В тысяча восемьсот шестьдесят третьем... тридцать пять франков... построен позже... три дома... банкир... перепроданы... самое меньшее полмиллиона франков...
Она рассказывала о своем состоянии с самодовольством старого солдата, повествующего о былых походах. Она перечисляла свои приобретения, полученные ею деловые предложения, свои доходы и так далее.
Лезабль, крайне заинтересованный, обернулся к двери и стоял теперь, прислонившись спиной к перилам балкона. Но все же он улавливал лишь обрывки фраз. Тогда он неожиданно покинул свою собеседницу и вернулся в столовую, чтобы не проронить ни слова. Усевшись рядом с мадмуазель Шарлоттой, он подробно обсудил с ней, насколько можно будет повысить квартирную плату и какое помещение капитала выгоднее — в ценных бумагах или в недвижимости.
Он ушел около полуночи, пообещав прийти еще раз.
Месяц спустя в министерстве только и разговора было, что о женитьбе Жака-Леопольда Лезабля на мадмуазель Селестине-Корали Кашлен.
III
Молодожены поселились на той же площадке, что и Кашлен с сестрой, в такой же точно квартире, откуда выпроводили жильцов.
Но душу Лезабля снедала тревога: тетка не захотела официально закрепить за Корой право наследования. Правда, она поклялась, «как перед господом богом», что завещание ею составлено и хранится у нотариуса, г-на Беллома. Кроме того, она обещала, что все ее состояние достанется племяннице, но при одном условии. Какое это условие — она объяснить не пожелала, несмотря на все просьбы, хотя и заверяла с благожелательной усмешкой, что выполнить его нетрудно.
Лезабль почел за благо пренебречь всеми сомнениями, вызванными упорной скрытностью старой ханжи, и, так как девица ему очень нравилась, он уступил своему влечению и поддался упрямой настойчивости Кашлена.
Теперь он был счастлив, хотя неуверенность в будущем и не переставала его мучить; и он любил жену, ни в чем не обманувшую его ожиданий. Жизнь его текла однообразно, спокойно. Прошло несколько недель; он уже привык к положению женатого человека и оставался все таким же исполнительным чиновником, как и прежде.