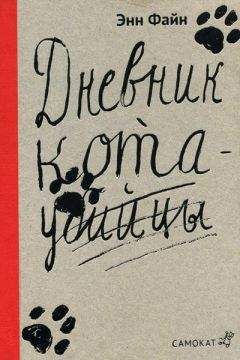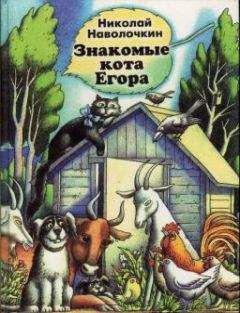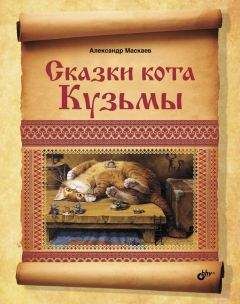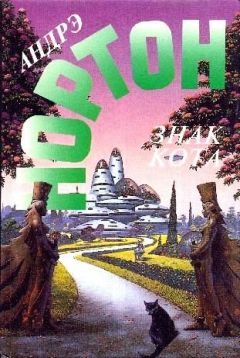Генри Джеймс - Мадонна будущего. Повести
— Anch’io son pittore![4] — воскликнул я. — Мне кажется, вы готовитесь подарить миру шедевр. Если вы воплотите в своей картине все то, о чем говорили, вы превзойдете самого Рафаэля. Дайте мне знать, когда она будет закончена, и, где бы я ни был, я примчусь во Флоренцию, чтобы приветствовать Мадонну будущего.
Он весь зарделся и тяжело вздохнул, отчасти в знак несогласия, отчасти от смущения.
— Я не часто говорю о своей картине, — во всяком случае, не столь откровенно, как сегодня. Мне претит эта нынешняя манера рекламировать свою работу заранее. Великое произведение создается в молчании, в уединении, даже в тайне. К тому же люди, знаете ли, очень жестоки и поверхностны; где им понять художника, который в наши дни мечтает написать Мадонну: над ним просто станут потешаться — да-да, потешаться, сэр! — Лицо его стало пунцовым. — Сам не знаю, отчего я так разоткровенничался с вами, так доверился вам. Наверно, оттого, что вы не похожи на насмешника. Да, мой молодой друг, — и он коснулся моей руки, — я стою уважительного отношения. И нет ничего смешного ни в бескорыстной мечте, ни в жизни, отданной ей.
В его взгляде чувствовалась такая суровая правдивость, что дальнейшие вопросы были неуместны. Впрочем, мне потом еще не раз представился случай задать их ему, так как мы стали проводить много времени вместе. Недели две мы ежедневно встречались в урочный час и шли осматривать Флоренцию. Он как никто другой знал город, исходил его и излазил вдоль и поперек — все улицы, церкви, галереи, — был превосходно знаком со всеми как более, так и менее важными местными преданиями и насквозь пропитан флорентийским духом, а потому оказался идеальным valet de place[5], так что я, с радостью оставив дома своего «Марри»[6], черпал факты и комментарии к ним из далеко не академических пояснений моего нового приятеля. О Флоренции он говорил как влюбленный, не скрывая, что она покорила его сердце с первого взгляда.
— У нас принято, — заявил он, — говорить о городах, как об одушевленных существах, да еще сравнивать с женщиной. Как правило, это совершенно неуместно. Ну что, помилуйте, женского в Нью-Йорке или Чикаго? А вот Флоренция — другое дело. К ней относишься с тем же чувством, какое испытывает безусый юнец к зрелой женщине с «прошлым». Ей верно служишь, даже не питая надежды на взаимность.
Эта бескорыстная страсть, по-видимому, заменяла моему приятелю обычные светские знакомства и связи: он явно жил уединенно и целиком отдавался работе. Я был крайне польщен, что он удостоил своим расположением такого шалопая, как я, великодушно жертвуя мне столь ценными, по-видимому, для него часами. Значительную часть этих часов мы проводили среди ранней живописи Ренессанса, которой так богата Флоренция, возвращаясь к ней вновь и вновь, гонимые сердечным влечением и неуемным желанием убедиться в том, не ценнее ли живительный аромат и прелесть этих нежных первоцветов искусства обильного плодами опыта произведений более поздней поры. Мы часто застревали в капелле Сан-Лоренцо, подолгу созерцая Микеланджелова воина со смутной думой на челе[7], сидящего сумрачным духом сомнения, скрывающегося за вечной маской мысли о тяготах жизни. Мы не раз стояли в тесных кельях, расписанных рукой Фра Анджелико, которой, кажется, водил сам ангел, пытаясь дознаться до смысла всех этих кружочков, капелек и птичьих следов, и час, проведенный у стен со следами его фресок, походил на утреннюю прогулку в монастырском саду. Мы посещали эти и многие другие места, заглядывали в темные храмы, сырые дворики и пыльные дворцовые покои в надежде набрести где на еще не стершийся след фрески, где на скрытые сокровища резьбы. С каждым днем меня все больше поражала необычайная целеустремленность моего спутника. Все служило ему поводом для бурных гимнов и грез, посвященных красоте. Что бы мы ни осматривали, он раньше или позже ударялся в пламенные рассуждения об истинном, прекрасном и благом. Не стану утверждать, что мой друг был гением, но маньяком он был наверняка, и я находил не менее увлекательным наблюдать за светлыми и теневыми сторонами его характера, чем если бы имел дело с пришельцем с иной планеты. Впрочем, о нашей он, по-видимому, почти ничего не знал, живя и общаясь исключительно в узких пределах своего искусства. Трудно представить себе человека, который был бы более не от мира сего, и мне порой приходило на ум, что один-другой безобидный грешок только пошел бы ему на пользу как художнику. Иногда меня крайне забавляла мысль о том, что по рождению он принадлежит к практической породе наших янки; но вместе с тем ничто не подтверждало лучше его американского происхождения, чем неумеренный пыл, который он проявлял.
Сама ярость его поклонения красоте обличала в нем неофита; уроженцу Европы с ее возможностями не надобно особого труда, чтобы примирить преданность искусству с жизненными удобствами. К тому же мой странный друг отличался чисто американским недоверием к суждениям разума и чисто американской любовью к звучным прилагательным в превосходной степени. В своих критических оценках он бывал намного чаще щедр, чем справедлив, и самыми скромными одобрительными эпитетами в его устах были «великолепный», «превосходный», «бесподобный». Отдавать дань восхищения в разменной монете казалось ему недостойным джентльмена; и все же, при всей откровенности, с которой он высказывал свои взгляды, сам он в полной мере оставался для меня загадкой. Его признания были полупризнаниями, а его рассказы о своих работах и жизненных обстоятельствах оставляли впечатление уклончивости и недосказанности. Он был несомненно беден, но вместе с тем, должно быть, не лишен необходимых средств к существованию, так как позволял себе смеяться над тем, что его усиленные занятия чистой красотой не принесли ему в жизни ни пенни. Именно из-за бедности, думается мне, он ни разу не пригласил меня к себе домой и даже не сообщил, по какому адресу квартирует. Мы встречались либо в каком-нибудь общественном месте, либо у меня в отеле, где я принимал его со всей доступной мне щедростью, стараясь исключить даже намек на мысль, что мною движет сострадание. Он был, по-видимому, всегда не прочь поесть — единственное свойство, которое с известной натяжкой можно было счесть его «искупительным грехом». Я поставил себе за правило воздерживаться от каких-либо мало-мальски нескромных вопросов, хотя при каждой встрече брал на себя смелость осведомиться, в почтительнейшей форме, о состоянии его magnum opus[8] — как он поживает и какие делает успехи.
— Мы, с Божьей помощью, подвигаемся, — неизменно отвечал он с хмурой улыбкой. — Дела наши превосходны. Я, видите ли, обладаю тем преимуществом, что ни минуты не теряю даром. Часы, которые я провожу с вами, всецело идут мне на пользу. Подобно тому как верующим всегда владеет мысль о Боге, подлинный художник всегда живет искусством. Он берет свое всюду, где находит, познавая бесценные тайны в каждом предмете, который попадает в поле его зрения. Если бы вы только знали, какое это упоение — наблюдать! Стоит мне бросить взгляд вокруг себя, и мне открывается здесь — как положить свет, там — как создать колорит или контраст. А потом, возвратившись домой, я складываю все эти сокровища к ногам моей Мадонны. О, я не бездельничаю. Nulla dies sine linea[9].
Тем временем меня познакомили с некой американской дамой, в чью гостиную охотно стекались обитавшие во Флоренции иностранцы. Жила она на пятом этаже и богатой отнюдь не была, но потчевала гостей отменным чаем с отменными крендельками, которые подавали не всегда, и разговорами, несколько худшего качества. Разговоры касались главным образом искусства: миссис Ковентри слыла «художественной натурой». Ее квартира была тот же дворец Питти au petit pied[10]. Ей принадлежало с дюжину «ранних мастеров»: целый букет разных Перуджино висел в столовой, один Джотто — в будуаре, Андреа дель Сарто — над камином в гостиной. Будучи обладательницей таких сокровищ, а также бесчисленных бронзовых изделий, мозаик, майолик и маленьких диптихов, сильно изъеденных жучком, с угловатыми фигурками святых на золоченых створках, наша дама пользовалась репутацией чуть ли не жрицы искусств. На ее груди неизменно красовалась увесистая миниатюра — копия «Мадонны в кресле». Как-то вечером, исподволь завладев ее вниманием, я спросил, знает ли она столь замечательного человека, как мистер Теобальд.
— Знаю ли я мистера Теобальда? — переспросила она. — Знаю ли его? Да вся Флоренция знает беднягу Теобальда с его огненными кудрями, бархатной блузой, нескончаемыми тирадами о прекрасной и дивной Мадонне, которую ни один человеческий глаз еще не видел, а человеческое терпение вряд ли способно дождаться.
— Вот как! — воскликнул я. — Так вы не верите в его Мадонну?