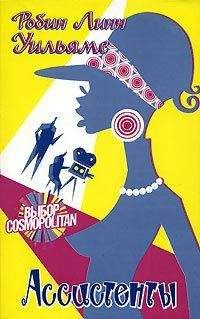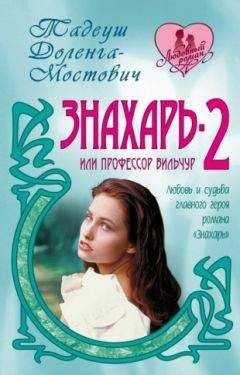Антон Чехов - Жена
— Очень, очень рад познакомиться! — сказал доктор громко, тенором, крепко пожимая мне руку и наивно улыбаясь. — Очень рад!
Он сел за стол, взял стакан чаю и сказал громко:
— А нет ли у вас случаем рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля, — обратился он к горничной, — поищите в шкапчике, а то я озяб.
Я опять сел у камина, глядел, слушал и изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь слово. Жена приветливо улыбалась гостям и зорко следила за мною, как за зверем; она тяготилась моим присутствием, а это возбуждало во мне ревность, досаду и упрямое желание причинить ей боль. Жена, думал я, эти уютные комнаты, местечко около камина — мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выживший из ума Иван Иваныч или Соболь имеют на них больше прав, чем я. Теперь я вижу жену не в окно, а вблизи себя, в обычной домашней обстановке, в той самой, которой недостает мне теперь в мои пожилые годы, и несмотря на ее ненависть ко мне, я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде, — и поэтому мне хочется подойти к ней, покрепче наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться.
— Мосье Енот, — обратился я к доктору, — сколько у нас в уезде больниц?
— Соболь… — поправила жена.
— Две-с, — ответил Соболь.
— А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой больницы?
— Павел Андреич, мне нужно поговорить с вами, — сказала мне жена.
Она извинилась пред гостями и вышла в соседнюю комнату. Я встал и пошел за ней.
— Вы сию же минуту уйдете к себе наверх, — сказала она.
— Вы дурно воспитаны, — сказал я.
— Вы сию же минуту уйдете к себе наверх, — резко повторила она и с ненавистью посмотрела мне в лицо.
Она стояла так близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ее лица.
— Но что такое? — сказал я. — В чем я так вдруг провинился?
Подбородок ее задрожал, она торопясь вытерла глаза, мельком взглянула на себя в зеркало и прошептала:
— Начинается опять старая история. Вы, конечно, не уйдете. Ну, как хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.
Она с решительным лицом, а я, пожимая плечами и стараясь насмешливо улыбаться, вернулись в гостиную. Здесь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человек в очках. Не здороваясь с новыми и не прощаясь со старыми, я пошел к себе.
После того, что произошло у меня за чаем и потом внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», о котором мы стали уже забывать в эти последние два года, в силу каких-то ничтожных, бессмысленных причин возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли уже остановиться, и что завтра или послезавтра вслед за взрывом ненависти, как я мог судить по опыту прошлых лет, должно будет произойти что-нибудь отвратительное, что перевернет весь порядок нашей жизни. Значит, в эти два года, думал я, начиная ходить по своим комнатам, мы не стали умнее, холоднее и покойнее. Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы, заграница, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с каким-нибудь франтом, италианцем или русским, надругается надо мной, опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через пять лет старость, седые волосы… Я ходил и воображал то, чего не может быть, как она, красивая, пополневшая, обнимается с мужчиною, которого я не знаю… Уже уверенный, что это непременно произойдет, отчего, — спрашивал я себя в отчаянии, — отчего в одну из прошлых давнишних ссор я не дал ей развода или отчего она в ту пору не ушла от меня совсем, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживал бы свой век покойно, работая, ни о чем не думая…
Во двор въехала карета с двумя фонарями, потом широкие сани тройкой. У жены, очевидно, был вечер.
До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышал, но в полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значит, ужин. Потом опять задвигали стульями, и мне из-под пола послышался шум; кричали, кажется, ура. Марья Герасимовна уже спала, и во всем верхнем этаже был только я один; в гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, а в кабинете неприятно подмигивало отражение моей лампы в окне. И с завистливым, ревнивым чувством к тому, что происходило внизу, я прислушивался и думал: «Хозяин тут я; если захочу, то в одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию». Но я знал, что это вздор, никого разогнать нельзя и слово «хозяин» ничего не значит. Можно сколько угодно считать себя хозяином, женатым, богатым, камер-юнкером, и в то же время не знать, что это значит.
После ужина кто-то внизу запел тенором.
«Ведь ничего же не случилось особенного! — убеждал я себя. — Что же я так волнуюсь? Завтра не пойду к ней вниз, вот и всё — и конец нашей ссоре».
В четверть второго я пошел спать.
— Внизу уже разъехались гости? — спросил я у Алексея, который раздевал меня.
— Точно так, разъехались.
— А зачем кричали ура?
— Алексей Дмитрич Махонов пожертвовали на голодающих тысячу пудов муки и тысячу рублей денег. И старая барыня, не знаю как их звать, обещали устроить у себя в имении столовую на полтораста человек. Слава богу-с… От Натальи Гавриловны вышло такое решение: всем господам собираться каждую пятницу.
— Собираться здесь внизу?
— Точно так. Перед ужином бумагу читали: с августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысяч восемь деньгами, кроме хлеба. Слава богу-с… Я так понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочут за спасение души, то много соберут. Народ тут есть богатый.
Отпустив Алексея, я потушил огонь и укрылся с головой.
«В самом деле, что я так беспокоюсь? — думал я. — Какая сила тянет меня к голодающим, как бабочку на огонь? Ведь я же их не знаю, не понимаю, никогда не видел и не люблю. Откуда же это беспокойство?»
Я вдруг перекрестился под одеялом.
«Но какова? — говорил я себе, думая о жене. — Тайно от меня в этом доме целый комитет. Почему тайно? Почему заговор? Что я им сделал?»
Иван Иваныч прав: мне нужно уехать!
На другой день проснулся я с твердым решением — поскорее уехать. Подробности вчерашнего дня — разговор за чаем, жена, Соболь, ужин, мои страхи — томили меня, и я рад был, что скоро избавлюсь от обстановки, которая напоминала мне обо всем этом. Когда я пил кофе, управляющий Владимир Прохорыч длинно докладывал мне о разных делах. Самое приятное он приберег к концу.
— Воры, что рожь у нас украли, нашлись, — доложил он, улыбаясь. — Вчера следователь арестовал в Пестрове трех мужиков.
— Убирайтесь вон! — крикнул я ему, страшно рассердившись, и ни с того ни с сего схватил корзину с бисквитами и бросил ее на пол.
IV
После завтрака я потирал руки и думал: надо пойти к жене и объявить ей о своем отъезде. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвечал я себе, но почему же и не объявить, тем более, что это не доставит ей ничего, кроме удовольствия? К тому же уехать после вчерашней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсем тактично: она может подумать, что я испугался ее, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня из моего дома, будет тяготить ее. Не мешает также объявить ей, что я жертвую пять тысяч, и дать ей несколько советов насчет организации и предостеречь, что ее неопытность в таком сложном, ответственном деле может повести к самым плачевным результатам. Одним словом, меня тянуло к жене и, когда я придумывал разные предлоги, чтобы пойти к ней, во мне уже сидела крепкая уверенность, что я это непременно сделаю.
Когда я пошел к ней, было светло и еще на зажигали ламп. Она сидела в своей рабочей комнате, проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись к столу, что-то быстро писала. Увидев меня, она вздрогнула, вышла из-за стола и остановилась в такой позе, как будто загораживала от меня свои бумаги.
— Виноват, я на одну минуту, — сказал я и, не знаю отчего, смутился. — Я узнал случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающим.
— Да, организую. Но это мое дело, — ответила она.
— Да, это ваше дело, — сказал я мягко. — Я рад ему, потому что оно вполне отвечает моим намерениям. Я прошу позволения участвовать в нем.
— Простите, я не могу вам этого позволить, — ответила она и посмотрела в сторону.
— Почему же, Natalie? — спросил я тихо. — Почему же? Я тоже сыт и тоже хочу помочь голодающим.
— Я не знаю, при чем вы тут? — спросила она, презрительно усмехнувшись и пожав одним плечом. — Вас никто не просит.
— И вас никто не просит, однако же, вы в моем доме устроили целый комитет! — сказал я.
— Меня просят, а вас, поверьте, никто и никогда не попросит. Идите, помогайте там, где вас не знают.
— Бога ради, не говорите со мною таким тоном.
Я старался быть кротким и всеми силами души умолял себя не терять хладнокровия. Впервые минуты мне было хорошо около жены. На меня веяло чем-то мягким, домовитым, молодым, женственным, в высшей степени изящным, именно тем, чего так не хватало в моем этаже и вообще в моей жизни. На жене был капот из розовой фланели — это сильно молодило ее и придавало мягкость ее быстрым, иногда резким движениям. Ее хорошие темные волосы, один вид которых когда-то возбуждал во мне страсть, теперь оттого, что она долго сидела нагнувшись, выбились из прически и имели беспорядочный вид, но от этого казались мне еще пышнее и роскошнее. Впрочем, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть может, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, с которой я когда-то жил и с которою жил бы до сего дня, если бы не ее несчастный характер; это был единственный на всем земном шаре человек, которого я любил. Теперь перед отъездом, когда я знал, что не буду видеть ее даже в окно, она, даже суровая и холодная, отвечающая мне с гордою, презрительною усмешкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себе, что уехать от нее мне страшно и невозможно.