Владимир Набоков - Ultima Thule
Однако, прежде чем оставить Юг, я должен был непременно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он все-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие сделанное им, но что именно это открытие — источник его сумасшествия, а не наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил его тело без присмотра и без поощрения; что, вероятно, он скоро умрет. Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей — а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, — придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посещу его, но его зять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение, и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.
И вот они явились, т. е. этот самый зять в своем неизменном черном костюмчике, его жена (рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) и сам Фальтер... вид которого меня поразил, несмотря на то, что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет; мне же показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятерили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, — всему этому Фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вместе с тем он не производил впечатления умалишенного — о нет, совсем напротив! — в его странно рассыревших чертах, в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутых уже не в модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на веревочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила.
В личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века, а все же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого душа не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры, явно относился ко мне так, как если бы все это было вчера — и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.
Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием и во все время разговора ни разу не приподняла седой стриженной головы. Ее муж вынул из кармана две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:
— Вы же отлично знаете, что она умерла.
— Ах да, — заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: — Что же, царствие ей небесное, — так кажется полагается в обществе говорить?
Затем началась следующая между нами беседа; я записал ее по памяти, но кажется верно:
— Мне хотелось вас повидать, Фальтер, — сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе, его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определенной стране и кровному прошлому) — мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем...
— Они не в счет, — отрывисто заметил Фальтер.
— Под откровенностью, — продолжал я, — мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты: моя вам не требуется.
— На прямой вопрос отвечу прямо, — сказал Фальтер.
— В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.
— Вот тебе раз, — проговорил Фальтер.
— Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, — ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться тотчас после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?
— Решительно отказываюсь, — ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотится книгу.
— Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.
— После чего точка, — вставил Фальтер.
— Согласен: вы мне ее не скажете; все же я делаю два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму.
Фальтер улыбнулся:
— Только не называйте это выводами, синьор. Это так — полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернетесь к отправной точке... с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением — открылась сущность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым образом становится свитком.
— Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, т. е. мимикрией правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных или отставных мыслей: а ведь каждая когда-то ходила в чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его — откровением?
— Нельзя, — сказал Фальтер.
— Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.
— Видите ли, отвечал Фальтер — в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другое образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но может быть проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, — математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, — я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил бы и другой на моем месте. Но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией.
— Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина. Обезьяна чужда жребию.
— Истин, теней истин, — сказал Фальтер, — на свете так мало, — в смысле видов, а не особей, разумеется, — а те, что на лицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа — явление мало знакомое, мало изученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой труизм, т. е. труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: черное темнее коричневого, или лед холоден. Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, — не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают «да» — так, что ли. Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина мною уже незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ (как это такого явного мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым.
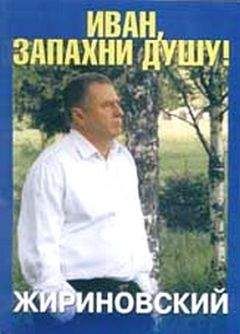
![Владимир Рыбин - Включите вашу память [=Если разбудить память]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)


