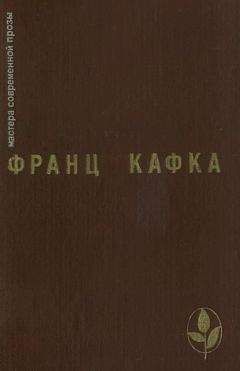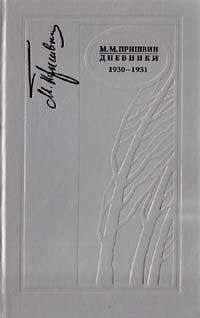Франц Кафка - Дневники
20 августа
Читал о Диккенсе. Это так трудно, да и может ли сторонний человек понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с наезжающим локомотивом из стали, угля и пара? Но и в этот момент ты не покидаешь ее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя дальше, то есть она гонит тебя, и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает тебя и куда ты сам влечешь ее.
Я не могу понять и даже не могу поверить в. это. Я лишь временами живу в маленьком слове, в его ударении я, например, на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову («удар» сверху). Первая и последняя буква – начало и конец моего чувства пойманной рыбы.
26 августа
Вероятно, это заключено в природе дружбы и сопровождает ее, как тень: один что-либо приветствует, другой о том же сожалеет, третий просто не замечает…
29 сентября
Дневники Гете. Человек, не ведущий дневника, неверно воспринимает дневник другого человека. Когда он, например, читает в дневниках Гете: «11.1.1797. Целый день был занят дома различными распоряжениями», то ему кажется, что сам он никогда за весь день не делал так мало.
Путевые наблюдения Гете совсем иные, чем нынешние, потому что они велись из почтовой кареты и развивались проще, местность изменялась медленно, и потому за ней легче было следить человеку, даже незнакомому с этой местностью. Это было спокойное, воистину пейзажное мышление. Так как окрестность представлялась пассажиру кареты нетронутой, в ее натуральном виде, и проселочные дороги разделяли ее гораздо естественнее, чем железнодорожные линии, с которыми они соотносятся примерно так же, как реки с каналами, то это не требовало от созерцателя никаких усилий и он мог без особого напряжения систематизировать свои впечатления. Поэтому моментальных наблюдений мало, большей частью в помещениях, где иные люди сразу же полностью распахиваются, например австрийские офицеры в Гейдельберге; а пассаж о мужчинах в Визенгейме, напротив, ближе к описанию местности: «На них были синие сюртуки и белые жилеты, украшенные ткаными цветами» (цитирую по памяти). Много написано о Рейнском водопаде в Шафхаузене, и вдруг посредине большими буквами: «Возникшие идеи».
30 сентября
Тухольский и Сафранский.[10] Берлинское произношение с придыханием, которое требует пауз в голосе, образуемых словечком «вишь». Первый из них – вполне цельный человек, двадцати одного года. От сдержанного и сильного размахивания тростью, заставляющего плечо по-юношески подниматься, до рассудительного довольства и пренебрежения к собственным писательским трудам. Хочет стать адвокатом, видит лишь небольшие препятствия к этому и одновременно – возможности их устранения; звонкий голос, мужское звучание которого после первого получаса говорения переходит как будто в девичье; сомневается, что способен позировать, но надеется, что ему в этом поможет больший жизненный опыт; наконец, боится, что знакомство с миром ввергнет его в мировую скорбь, что он замечал в пожилых берлинцах-евреях близкого ему направления, хотя пока он в себе этого совсем не ощущает. Скоро женится.
1 октября
О Гете. «Возникшие идеи» – это всего-навсего идеи, которые вызвал Рейнский водопад. Это видно из одного письма к Шиллеру. Мимолетное наблюдение – «Кастаньетный ритм детских деревянных башмаков» – произвело такое впечатление, так всеми воспринято, что нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь, даже не зная об этом наблюдении, воспринял его как собственную оригинальную идею.
2 октября
Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал или сном был объят лишь поверхностный слой моего существа, я должен начать работу по засыпанию сначала и чувствую, что сон отвергает мои попытки. И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю «около» себя, в то время как сам я должен биться со снами. Часам к пяти последние остатки сна уничтожены, я только грежу, и это изнуряет еще больше, чем бодрствование. Короче говоря, всю ночь я провожу в том состоянии, в каком здоровый человек пребывает лишь минуту перед тем, как заснуть. Когда я просыпаюсь, меня обступают все сновидения, но я остерегаюсь продумать их. На заре я вздыхаю в подушку, ибо всякая надежда на прошедшую ночь исчезла. Я вспоминаю о тех ночах, в конце которых выбирался из сна столь глубокого, словно был заперт в скорлупе ореха.
Страшным видением сегодня ночью был слепой ребенок, как будто дочь моей ляйтмерицкой тети, у которой вообще нет дочерей, а только сыновья, один из них однажды сломал себе ногу. Во сне существуют какие-то связи между этим ребенком и дочерью д-ра М., превращающейся, как я недавно заметил, из красивого ребенка в толстую, чопорно одетую маленькую девочку. Оба глаза слепого или плохо видящего ребенка прикрыты очками, левый глаз под довольно сильно выпуклым стеклом молочно-серого цвета, выпученный, другой глаз сидит глубоко и прикрыт вогнутым стеклом. Для того чтобы стекло сидело оптически правильно, необходимо было вместо обычной заложенной за ухо дужки применить рычажок, головку которого никак нельзя было прикрепить иначе, кроме как к скуле, так что от стекла к скуле спускается проволочка, уходящая в продырявленное мясо и кончающаяся на кости, из которой выступает другая проволочка, заложенная за ухо.
Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу. Ведь как бы мало и плохо я ни писал, эти маленькие потрясения делают меня очень чувствительным, я ощущаю – особенно по вечерам и еще больше по утрам – дыхание, приближение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула: он тягостно шумит во мне, но унять его у меня нет времени. В конечном счете этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония; выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня не хватает сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части. При этом я всегда думаю о Париже, где во времена осады и позже, до Коммуны, население северных и восточных предместий, прежде чужое парижанам, в течение месяцев, как бы толчками, подобно часовой стрелке, буквально с каждым часом все ближе придвигалось переулками к центру Парижа.
Мое утешение – с ним я и отправляюсь спать – в том, что я так долго не писал, что писание еще не могло занять свое место в моей нынешней жизни и потому оно должно – правда, при наличии определенного мужества – хотя бы некоторое время удаваться.
Я сегодня был настолько слаб, что даже рассказал шефу историю про ребенка. Теперь я вспоминаю, что очки, виденные во сне, принадлежат моей матери, сидящей вечером возле меня и во время игры в карты не очень приветливо поглядывающей на меня сквозь пенсне. Правое стекло ее пенсне – не помню, чтобы я раньше замечал это, – ближе к глазу, чем левое.
3 октября
Диктуя на службе довольно длинное уведомление о несчастных случаях участковым управлениям, я, дойдя до конца, который должен был прозвучать повнушительнее, вдруг запнулся и не мог продолжать, а только уставился на машинистку К. – она же по своему обыкновению особенно оживилась, задвигалась в кресле, стала покашливать, рыться на столе и тем самым привлекла внимание всей комнаты к моей беде. Искомый оборот приобрел теперь еще и то значение, что он должен был успокоить ее, и чем необходимей он становился, тем труднее давался. Наконец я нашел слово «заклеймить» и соответствующую ему фразу, но держал все это во рту с чувством отвращения и стыда, словно это был кусок сырого мяса, вырезанного из меня мяса (такого напряжения мне это стоило). Наконец я выговорил фразу, но осталось ощущение великого ужаса, что все во мне готово к писательской работе и работа такая была бы для меня божественным исходом и истинным воскрешением, а между тем я вынужден ради какого-то жалкого документа здесь, в канцелярии, вырывать у способного на такое счастье организма кусок его мяса.
4 октября
Я неспокоен и язвителен. Вчера перед сном у меня в верхней части головы мерцал прохладный огонек. Над левым глазом уже прочно обосновалась давящая тяжесть. Когда я думаю об этом, мне кажется, что на службе я больше не смог бы выдержать даже в том случае, если бы мне сказали, что через месяц я стану свободен. И тем не менее я, как правило, выполняю на службе свои обязанности, вполне спокоен, если могу быть уверен, что шеф доволен мною, и не считаю свое положение столь ужасным. Впрочем, вчера вечером я намеренно сделался бесчувственным, ходил гулять, читал Диккенса, потом я немного оправился, у меня не было сил предаться грусти, которую я считаю оправданной и тогда, когда она кажется чуть отодвинутой вдаль, что дает мне надежду на лучший сон. Он и был глубже, но недостаточно глубок и часто прерывался. Я говорил себе в утешение, что зато снова подавил великое волнение, возникшее во мне, что я не хочу терять власти над собой, как это раньше всегда бывало после таких периодов, что и послеродовые боли этого волнения не заставят меня лишиться четкого сознания, как то всегда бывало прежде. Может быть, я таким образом сумею найти в себе еще какую-то скрытую силу сопротивления.