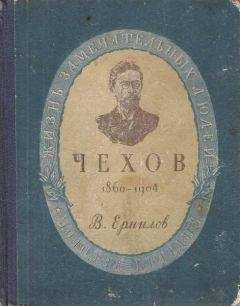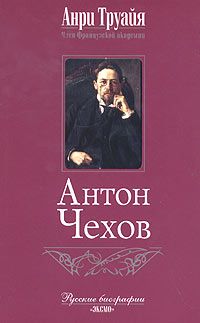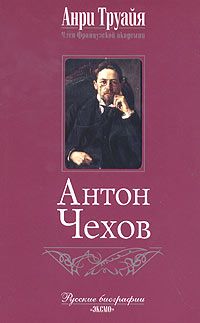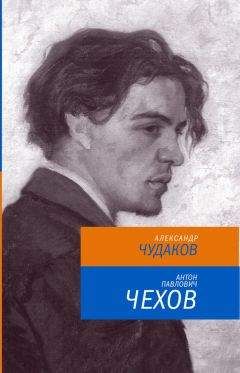Антон Чехов - Ариадна
– В сущности, как всё это было хорошо, – вздохнула она. – Но мы и здесь живем не скучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший! Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу. – Она оглядела меня и поморщилась. – Аббация не деревня, – сказала она. – Тут надо было комильфо.
Потом мы пошли в ресторан. Ариадна всё время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным и точно глазам своим не верила, что я с ней. Так просидели мы часов до одиннадцати и разошлись очень довольные и ужином, и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству: «сын известного профессора, наш сосед по имению». Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях и при этом всё ссылалась на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и, право, это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какою, впрочем, она и была по происхождению.
– Но какова тетя! – сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. – Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Меран. Какова?
Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил:
– Про какую это вы тетю говорили давеча? Что еще за тетя?
– Это ложь во спасение, – рассмеялась Ариадна. – Они не должны знать, что я без спутницы. – После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала: – Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым! Он такой несчастный! Его мать и жена просто ужасны.
Она говорила Лубкову вы и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной, «до завтра», и жили они в разных этажах, – это подавало мне надежду, что всё вздор и никакого романа у них нет, и, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. И когда он однажды попросил у меня триста рублей взаймы, то я дал ему их с большим удовольствием.
Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксендза и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт и, где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергивая плечами. И музыка играла всё одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник или удил рыбу, так и здесь мне было стыдно от лакеев, кучеров, встречных рабочих; мне всё казалось, что они глядели на меня и думали: «Почему ты ничего не делаешь?» И этот стыд я испытывал от утра до вечера, каждый день. Странное, неприятное, монотонное время; разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня взаймы то сто, то пятьдесят гульденов, и от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия, и начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами.
Но вот пошли дожди, стало холодно. Мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей восемьсот. Мы останавливались в Венеции, в Болонье, во Флоренции и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром нам подавали cafe complet. (5) В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд, с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку. С ней за компанию ели и мы. А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам, с постоянною мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искал глазами стула и лицемерно повторял за другими: «Какая прелесть! Сколько воздуху!» Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей.
То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра и, благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились.
Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков.
– Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое, – сказал он. – У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, всё бы не беда, а то яко наг, яко благ… Верите ли, у меня осталось только восемь франков, – продолжал он, понижая голос, – между тем, я должен послать жене сто и матери столько же. Да и здесь надо жить. Ариадна, точно ребенок, не хочет войти в положение и сорит деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И, скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то паинек? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых наши отношения, обходится нам в сутки лишних 10–15 франков, так как я занимаю отдельный номер. Для чего это?
Острый камень повернулся у меня в груди. Неизвестности уже не было, всё уже было ясно для меня, я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение: не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой…
– Сходиться с женщиной легко, – продолжал Лубков, – стоит только раздеть ее, а потом как всё это тяжело, какая ерунда!
Когда я считал полученные деньги, он сказал:
– Если вы не дадите мне тысячу франков взаймы, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс.
Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей, чудаком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счету. Оставалось проститься с Ариадной.
Я постучался к ней.
– Entrez! (6)
В ее номере был утренний беспорядок: на столе чайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа; сильный, удушающий запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, не причесанная.
Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом:
– Зачем… зачем вы выписали меня сюда за границу?
По-видимому, она догадалась, о чем я думаю; она взяла меня за руку и сказала:
– Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый!
Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаю! Я вышел, не сказавши больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадну беременной, и она была мне противна, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станциях, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного, страстного корыстолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину, – всё это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. Ариадна, спрашивал я с ужасом, эта молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в связи с таким заурядным, неинтересным пошляком? Но почему же ей не любить Лубкова? отвечал я себе. Чем он хуже меня? О, пусть она любит, кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенна со мной? И так далее, всё в таком роде, до одурения. А в вагоне было холодно. Ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь отворяется прямо в купе, – и я чувствовал себя, как в колодках, стиснутым, брошенным, жалким, и ноги страшно зябли, и, в то же время, то и дело приходило на память, как обольстительна она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами, и такая сильная ревность вдруг овладевала мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом.
Дома я застал сугробы и двадцатиградусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане… Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные-длинные, я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать; днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь, то кур и телят покормишь, а по вечерам – хоть пропадай.
Прежде я не любил гостей, теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал спирит Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собою своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты, – для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, этак от завтрака до полуночи, и всё молчал; молча выпивал бутылки две-три пива и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем, как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса: