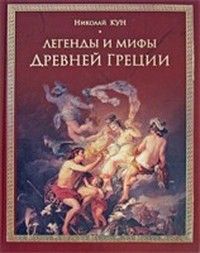Олдос Хаксли - Улыбка Джоконды
– Либбард? – удивился мистер Хаттон. – Почему вы здесь? Моей жене стало хуже?
– Мы весь вечер старались связаться с вами, – ответил мягкий, грустный голос. – Думали, вы у Джонсона, но там ответили, что вас нет.
– Да, я задержался в дороге. Машина сломалась, – с досадой ответил мистер Хаттон. Неприятно, когда тебя уличили во лжи.
– Ваша жена срочно требовала вас.
– Я сейчас же поднимусь к ней, – мистер Хаттон шагнул к лестнице.
Доктор Либбард придержал его за локоть.
– К сожалению, теперь уже поздно.
– Поздно? – Его пальцы затеребили цепочку от часов; часы никак не хотели вылезать из кармашка.
– Миссис Хаттон скончалась полчаса тому назад. Тихий голос не дрогнул, печаль в глазах не углубилась. Доктор Либбард говорил о смерти так же, как он стал бы говорить об игре в крикет между местными командами. Все на свете суета сует, и все одинаково прискорбно.
Мистер Хаттон поймал себя на том, что вспоминает слова мисс Спенс: "В любой час, в любую минуту…" Поразительно! Как она была права!
– Что случилось? – спросил он. – Умерла? Отчего?
Доктор Либбард пояснил:
– Паралич сердца, результат сильного приступа рвоты, вызванного, в свою очередь, тем, что больная съела что-то неудобоваримое.
– Компот из красной смородины, – подсказал мистер Хаттон.
– Весьма возможно. Сердце не выдержало. Хронический порок клапанов. Напряжение было чрезвычайным. Теперь все кончено, она мучилась недолго.
III"Какая досада, что похороны назначены на день матча между Итоном и Харроу", – говорил старый генерал Грего, стоя с цилиндром в руках под крытым входом на кладбище и вытирая лицо носовым платком.
Мистер Хаттон услышал эти слова и с трудом подавил в себе желание нанести тяжелые увечья генералу. Ему захотелось расквасить старому негодяю его обрюзгшую, багровую физиономию. Не лицо, а тутовая ягода, присыпанная мукой. Должно же быть какое-то уважение к мертвым. Неужели всем все равно? Теоретически ему тоже было более или менее все равно – пусть мертвые хоронят своих мертвецов, но тут, у могилы, он вдруг поймал себя на том, что плачет. Бедная Эмили! Когда– то они были счастливы! Теперь она лежит на дне глубокой ямы. А этот Грего ворчит, что ему не придется побывать на матче между Итоном и Харроу.
Мистер Хаттон оглянулся на черные фигуры, которые по двое, по трое тянулись к машинам и каретам, стоявшим за воротами кладбища. Рядом с ослепительной пестротой июльских цветов, зеленью трав и листвы эти фигуры казались чем-то неестественным, чуждым здесь. Он с удовольствием подумал, что все эти люди тоже когда-нибудь умрут.
В тот вечер мистер Хаттон допоздна засиделся у себя в кабинете над чтением биографии Мильтона. Его выбор пал на Мильтона потому, что эта книга первая подвернулась ему под руку, только и всего. Когда он кончил читать, было уже за полночь. Он встал с кресла, отодвинул задвижку на стеклянной двери и вышел на небольшую каменную террасу. Ночь стояла тихая и ясная. Мистер Хаттон посмотрел на звезды и на черные провалы между ними, опустил глаза к темной садовой лужайке и обесцвеченным ночью клумбам, перевел взгляд на черно-серые под луной просторы вдали.
Он думал – напряженно, путаясь в мыслях. Есть на свете звезды, есть Мильтон. В какой-то мере человек может стать равным звездам и ночи. Величие, благородство души. Но действительно ли существует различие между благородством и низостью? Мильтон, звезды, смерть и он… он сам. Душа, тело – возвышенное, низменное в человеческой природе. Может, в этом и есть доля истины. Прибежищем Мильтона были Бог и праведность. А у него что? Ничего, ровным счетом ничего. Только маленькие груди Дорис. В чем смысл всего этого? Мильтон, звезды, смерть, и Эмили в могиле, Дорис и он – он сам… Всегда возвращающийся к себе.
Да, он существо ничтожное, мерзкое. Доказательств тому сколько угодно. Это была торжественная минута. Он сказал вслух: "Клянусь! Клянусь! – Звук собственного голоса в ночной темноте ужаснул его; ему казалось, что столь грозная клятва могла бы связать даже богов. – Клянусь! Клянусь!"
В прошлом, в канун Нового года и в другие торжественные дни, он чувствовал такие же угрызения совести, давал такие же обеты. Все они растаяли, эти решения, рассеялись, точно дым. Но таких минут, как эта, не было никогда, и он еще не давал себе более страшной клятвы. Теперь все пойдет по-иному. Да, он будет жить, повинуясь рассудку, он будет трудиться, он обуздает свои страсти, он посвятит свою жизнь какому-нибудь полезному делу. Это решено, и так тому и быть.
Он уже прикидывал мысленно, что утренние часы пойдут на хозяйственные дела, на разъезды по имению вместе с управляющим – земли его будут обрабатываться по последнему слову агрономии – силосование, искусственные удобрения, севооборот и все такое прочее. Остаток дня будет отведен серьезным занятиям. Сколько лет он собирается написать книгу – "О влиянии болезней на цивилизацию".
Мистер Хаттон лег спать, сокрушаясь в сердце своем, полный кротости духа, но в то же время с верой в то" что на него сошла благодать. Он проспал семь с половиной часов и проснулся ярким солнечным утром. После крепкого сна вчерашние волнения улеглись и перешли в обычную для него жизнерадостность. Очнувшись, он не сразу, а только через несколько минут вспомнил свои решения, свою стигийскую клятву. При солнечном свете Мильтон и смерть уже не так волновали его. Что касается звезд, то они исчезли. Но принятые им решения правильны, это было несомненно даже днем. Позавтракав, он велел оседлать лошадь и объехал свое поместье в сопровождении управляющего. После второго завтрака читал Фукидида о чуме в Афинах. Вечером сделал кое-какие выписки о малярии в Южной Италии. Раздеваясь на ночь, вспомнил, что в юмористическом сборнике Скелтона есть забавный анекдот о "потнице". Жаль, не оказалось карандаша под рукой, он записал бы и это.
На шестой день своей новой жизни мистер Хаттон, разбирая утром почту, увидел конверт, надписанный знакомым ему неинтеллигентным почерком Дорис. Он распечатал его и стал читать письмо. Она не знала, что сказать ему, ведь слова ничего не выражают. Его жена умерла – и так внезапно… Как это страшно! Мистер Хаттон вздохнул, но дальнейшее показалось ему более интересным:
"Смерть – это ужас, я стараюсь гнать от себя мысли о ней.
Но когда услышишь про такое, или когда мне нездоровится, или когда бывает скверно на душе, я вспоминаю, что смерть – вот она, близко, и начинаю думать о всем нехорошем, что делала в жизни, и о нас с тобой, и не знаю, что будет дальше, и мне становится страшно. Я такая одинокая, котик, и такая несчастная, и ума не приложу, что делать. Я не могу не думать о смерти и я такая неприкаянная, такая беспомощная без тебя. Я не хотела тебе писать – думала, подожду, когда ты снимешь траур и сможешь опять встречаться со мной, но мне было так одиноко, так грустно, котик, что я не удержалась и пишу тебе. Я не могу иначе. Прости! Но я так хочу быть с тобой. Ты у меня один во всем мире. Ты такой добрый, нежный, ты все понимаешь, таких, как ты, больше нет. Я никогда не забуду, какой ты был добрый и ласковый ко мне. И ты такой умный и столько всего знаешь, что я не понимаю, как ты мог заметить меня, необразованную, глупую, и не только заметил, а и полюбил, потому что ты ведь любишь меня немножко, правда, котик?"
Мистер Хаттон почувствовал стыд и угрызения совести. Перед ним преклоняются, ему приносят благодарность. И кто, за что? Эта девушка, за то, что он совратил ее! Это уже слишком! Большей нелепости не выдумаешь. С его стороны это был каприз. Бессмысленный, дурацкий каприз – только и всего. Ведь если говорить начистоту, так большой радости это ему не принесло. По сути дела, он не столько развлекался, сколько скучал с Дорис. Когда-то он мнил себя гедонистом. Но гедонизм не исключает известной доли рассудочности – это сознательный выбор заведомых наслаждений, сознательное уклонение от заведомых страданий. Он же поступал безрассудно, вопреки рассудку. Ему заранее было известно – слишком хорошо известно! – что его жалкие романы ничего не принесут, И все же, как только смутный зуд в крови охватывал его, он поддавался ему и – в который раз! – увязал в этих глупейших интрижках. Вспомнить хотя бы Мэгги – горничную его жены, Эдит – девушку с соседней фермы и миссис Прингл, и лондонскую официантку, и других, чуть ли не десятки других. И всякий раз ничего, кроме однообразия и скуки. Он-то знал заранее, как все сложится, всегда знал. И все-таки, все-таки… Опыт ничему нас не учит!
Бедная, маленькая Дорис! Он ответит ей ласково, постарается утешить, но встречаться они больше не будут. Вошедший лакей доложил, что лошадь подана и ждет его у подъезда. Он сел в седло и уехал. В то утро старик управляющий действовал ему на нервы больше, чем обычно.
Спустя пять дней Дорис и мистер Хаттон сидели на пристани в Саутэнде: Дорис – в легком белом платье с розовой отделкой – так и сияла от счастья, мистер Хаттон, вытянув ноги и сдвинув панаму на затылок, покачивался на стуле и пытался войти в роль эдакого заправского гуляки. А ночью, когда уснувшая Дорис тепло дышала возле него, сквозь мрак и истому во всем теле к нему пробрались космические чувства, владевшие им в тот вечер – всего лишь две недели назад, – когда он принял такое важное решение. Итак, ту торжественную клятву постигла участь многих других его решений. Безрассудство восторжествовало, он поддался первому же зуду желания. Безнадежный, совершенно безнадежный человек.