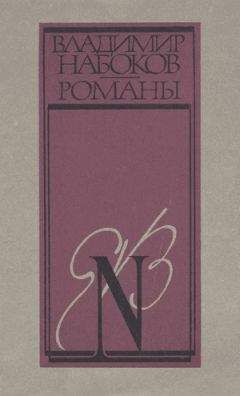Владимир Набоков - Подлинная жизнь Себастьяна Найта
По причинам, уже упомянутым, я не стану пытаться описывать отрочество Себастьяна в какой-то последовательной связи, которой я достиг бы естественным образом, будь Себастьян выдуманным персонажем. Когда бы так, я мог бы надеяться, что сумею и развлечь, и наставить читателя, рисуя гладкое перетекание героя из детства в юность. Но если бы я попробовал проделать это с Себастьяном, я получил бы одну из тех “biographies romancées”[3], что являют собою наихудший из выведенных доныне сортов литературы. Пусть поэтому закроется дверь, оставив лишь тонкую линию напряженного света понизу, пусть и лампа погаснет в соседней комнате, где улегся спать Себастьян; пусть прекрасный оливковый дом на набережной Невы неторопливо растает в сизо-серой морозной ночи, с нежно падающими снежными хлопьями, медлящими в лунно-белом сиянии высокого уличного фонаря и понемногу укрывающими могучие члены двух бородатых консольных фигур, с атласовой натугой подпирающих эркер отцовской спальни. Отец мой мертв, Себастьян заснул или, по крайней мере, затих, словно мышь, в комнате рядом, а я лежу в постели без сна, уставясь в темноту.
Через двадцать примерно лет я предпринял поездку в Лозанну, чтобы найти старую швейцарскую даму, бывшую гувернанткой вначале у Себастьяна, а потом у меня. Ей было, пожалуй, под пятьдесят, когда в 1914 году она оставила нас, переписка меж нами давно уже прервалась, а потому я вовсе не был уверен, что отыщу ее, еще живую, в 1936-м. Однако же отыскал. Существовал, как я обнаружил, союз швейцарских старушек, бывших гувернантками в России, до революции. Они “жили своим прошлым”, как выразился очень приятный господин, который свел меня к ним, тратили последние годы, – а в большинстве своем эти женщины одряхлели и отчасти рехнулись, – сравнивая записки, воюя друг с дружкой по пустякам и порицая состояние дел, которое застали в Швейцарии после многих лет, проведенных в России. Их трагедия коренилась в том, что все годы, проведенные на чужбине, они оставались совершенно невосприимчивыми к ее влияниям (до того даже, что не научились простейшим русским словам), а отчасти и враждебными своему окружению – сколько раз я слышал, как Mademoiselle оплакивает свое изгнание, жалуется на пренебрежение, непонимание и тоскует по своей прекрасной отчизне; однако, когда эти бедные блудные души возвратились домой, оказалось, что они совершенно чужие в переменившейся стране, и тут по странной вычуре чувств Россия (в сущности, бывшая для них неизведанной бездной, отдаленно порыкивающей вне освещенного лампой угла душноватой комнаты с семейными фотографиями в перламутровых рамках и акварельным видом Шильонского замка), эта неведомая Россия приобрела вдруг черты потерянного рая – бескрайнего и неясного, но приязненного в ретроспективе пространства, населенного плодами мечтательного воображения. Mademoiselle оказалась очень глухой и очень седой, но такой же говорливой, как и прежде; после первых пылких объятий она принялась вспоминать мелкие обстоятельства моего детства, либо безнадежно искаженные, либо столько чуждые моей памяти, что я усомнился в их прошедшей реальности. Она ничего не знала о смерти моей матери, не знала, что Себастьян уже три месяца как мертв. Собственно, она не ведала и о том, что он стал знаменитым писателем. Она была очень слезлива, и слезы ее были очень искренни, но, кажется, ее немножко сердило, что я не плачу с ней вместе. “Вы всегда были такой сдержанный”, – сказала она. Я сообщил, что пишу книгу о Себастьяне, и попросил рассказать о его детстве. Она появилась у нас вскоре после второй женитьбы отца, но прошлое в ее сознании так расплылось и смешалось, что она говорила о первой его жене (“cette horrible Anglaise”[4]) так, словно знала ее не хуже, чем мою мать (“cette femme admirable”[5]). “Мой бедный маленький Себастьян, – причитала она, – такой нежный со мной, такой благородный. Ах, я помню, как он обвивал мою шею ручонками и говорил: “Я ненавижу всех, кроме тебя, Зелли, ты одна понимаешь мою душу”. А в тот раз, когда я шлепнула его по руке – une toute petite tape[6] – за то, что он нагрубил вашей матушке, какие у него были глаза, – я чуть не заплакала, – и каким голосом он сказал: “Я благодарен тебе, Зелли, это никогда больше не повторится...”
Она долго еще продолжала в этом же духе, отчего я испытывал унылое неудобство. В конце концов я ухитрился, после нескольких бесплодных попыток переменить разговор, – я к тому времени совершенно охрип, потому что она куда-то засунула свою слуховую трубку. Потом она рассказывала о своей соседке, маленькой толстушке, еще старше нее, с которой я столкнулся в коридоре. “Бедняжка совсем глуха, – жаловалась она,– и страшная врунья. Я наверное знаю, что она только давала уроки детям княгини Демидовой, а вовсе у них не жила”. “Напишите эту книгу, эту прекрасную книгу,– прокричала она, когда я уходил, – пусть она будет волшебной сказкой, а Себастьян – принцем. Очарованным принцем... Я столько раз говорила ему: “Себастьян, будьте осторожны, женщины будут обожать вас”. А он с улыбкой отвечал: “Ну что же, я тоже буду обожать женщин...”
Я внутренне скрючился. Она чмокнула меня и похлопала по руке, и опять прослезилась. Я посмотрел в ее мутные старые глаза, на мертвый глянец ее фальшивых зубов, на хорошо мне памятную гранатовую брошь на груди... Мы расстались. Шел сильный дождь, я испытывал стыд и досаду на то, что прервал этим ненужным паломничеством вторую главу моей книги. Одно впечатление в особенности угнетало меня. Она ни единого разу не спросила меня о том, как жил Себастьян, не задала ни одного вопроса о том, как он умер, ничего.
Глава 3
В ноябре 1918 года матушка решила бежать от российских опасностей со мною и Себастьяном. Революция была в полном разгаре, границы закрылись. Ей удалось найти человека, промышлявшего скрытной доставкой беглецов через границу; договорились, что за определенную мзду, половина которой выплачивалась вперед, он переправит нас в Финляндию. Нам предстояло сойти с поезда невдалеке от границы, в месте, до которого можно было добраться, не преступая закона, и затем пересечь ее скрытыми тропами, скрытыми вдвойне и втройне из-за снегопадов, обильных в этих безмолвных местах. И вот, в самом начале нашего железнодорожного вояжа, нам с мамой пришлось ждать Себастьяна, который с самоотверженной помощью капитана Белова катил наш багаж от дома к вокзалу. По расписанию поезд отходил в 8.40 утра. Уже половина – и никаких признаков Себастьяна. Наш проводник был уже в поезде, спокойно сидел, читая газету; он предупредил маму, что заговаривать с ним на людях не следует ни при каких обстоятельствах, и по мере того как таяло время и поезд приготовлялся к отправке, нас охватывало жуткое, цепенящее чувство страха. Мы понимали, что человек этот, по обыкновению своего цеха, нипочем не согласится повторить предприятие, провалившееся уже в начале. Мы также знали, что не сумеем еще раз осилить траты, связанные с побегом. Минуты шли, и я чувствовал, как что-то отчаянно екает у меня под ложечкой. Мысль, что через минуту-другую поезд тронется и нам придется вернуться на темный, холодный чердак (дом наш несколько месяцев как национализировали), терзала нас чрезвычайно. Дорогою на вокзал мы обогнали Белова и Себастьяна, толкавших по хрусткому снегу тяжко нагруженную тележку. Эта картина теперь недвижно стояла перед моими глазами (я был тринадцатилетним мальчиком с богатым воображением), как бы приговоренная волшебством к вечному оцепенению. Матушка, втянув руки в рукава, с клоком седых волос, выбившимся из-под шерстяного платка, сновала взад и вперед, пытаясь поймать взгляд нашего проводника всякий раз, что проходила мимо его окна. Восемь сорок пять, восемь пятьдесят... Отправка поезда задерживалась, но вот свистнуло, тень горячего белого пара пронеслась по бурому снегу перрона, и в это же самое время показался бегущий Себастьян, наушники его меховой шапки летели по ветру. Втроем мы вскарабкались в уходящий поезд. Прошло какое-то время, прежде чем Себастьян сумел рассказать нам, что капитана Белова взяли на улице, как раз когда они проходили мимо его прежнего дома, а Себастьян, предоставив багаж его собственной участи, отчаянным рывком сумел достигнуть вокзала. Несколько месяцев спустя мы узнали, что бедного нашего друга расстреляли вместе с двумя десятками подобных ему и бок о бок с ним оказался Пальчин, встретивший смерть так же отважно, как и Белов.
В последней своей изданной книге, “Неясный асфодель” (1936), Себастьян выводит проходное лицо – человека, только что бежавшего из неназванной страны, полной ужасов и бедствий. “Что я могу сказать вам о своем прошлом, господа [говорит он]. Я родился в стране, где идея свободы, понятие права, обычай человеческой доброты холодно презирались и грубо отвергались законом. Порою в ходе истории ханжеское правительство красило стены национальной тюрьмы в желтенькую краску поприличнее и зычно провозглашало гарантии прав, свойственных более удачливым государствам; однако, либо от этих прав вкушали одни лишь тюремные надзиратели, либо в них таился скрытый изъян, делавший их еще горше установлений прямой тирании. <...> Каждый в этой стране был рабом, если не был погромщиком; а поскольку наличие у человека души и всего до нее относящегося отрицалось, причинение физической боли считалось достаточным средством для управления людьми и для их вразумления. <...> Время от времени случалось нечто, называемое революцией, и превращало рабов в погромщиков и обратно. <...> Страшная страна, господа, жуткое место, и если есть в этой жизни что-то, в чем я совершенно уверен, – это что я никогда не променяю свободы моего изгнания на порочную пародию родины...”