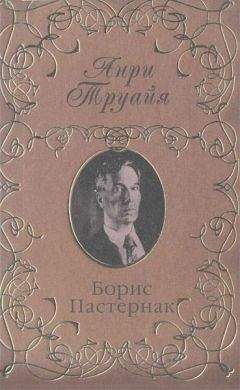Борис Пастернак - Доктор Живаго
Только летом 1959 года с трудом удалось получить заказ на новую работу — перевод «Стойкого принца» Кальдерона.
Но Пастернак недаром писал, что нужно
…быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
Вскоре он начинает работать над пьесой «Слепая красавица» о крепостном театре в России. Говоря шире — о крепостном праве, реформах 1860-х годов и судьбе русского художника.
10 февраля 1960 года Пастернаку исполнилось 70 лет. Шел поток поздравительных писем из всех стран мира. На праздничном обеде были знакомые из артистического круга.
Пастернака периодически беспокоили боли в левой половине спины. Он старался не обращать на них внимания, но к концу апреля они настолько усилились, что пришлось позвать врача. С начала мая он слег в постель. Ему становилось все хуже.
Поначалу считалось, что это второй инфаркт миокарда. Сделанный в двадцатых числах рентгеновский снимок показал распространенный рак левого легкого.
За день до конца Пастернак позвал нас, чтобы сказать, как мучит его двойственность его признания, которое обернулось полной неизвестностью в России. «Вся моя жизнь была только единоборством с царящей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь», — говорил он.
Прошло тридцать лет. Лишенная каких-либо истинных причин и тем не менее абсолютная невозможность отечественного издания романа стала своеобразным олицетворением наступившего безвременья и общественного застоя.
Еще в 1953 году Пастернак писал Н. Н. Асееву о задачах искусства:
«Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях независимо от того, читают её или не читают.
Это — гордое, покоящееся в себе и самоутверждающее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость.
Но настоящему искусству в моем понимании далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».
В кругах московской интеллигенции «Доктор Живаго», несмотря на запреты и изъятия, был достаточно известен, целое поколение выросло и сформировалось с глубоким внутренним учетом его текста.
По временам возникали издательские предположения. Мы регулярно писали заявки и письма. Издательство встречало их с видимым одобрением и сочувствием, но на каком-то решающем литературно-бюрократическом уровне следовал жесткий и не допускающий возражения отказ.
В переделкинский дом Пастернака шли люди и хотели узнать о нем и его работах. Члены семьи, сменяя друг друга, рассказывали им о судьбе Пастернака в доме, где все сохранялось как при его жизни. Так продолжалось до осени 1984 года, когда семья была административно выселена и вещи вывезены из дома.
В начале 1988 года «Доктор Живаго» вышел в «Новом мире».
Сплошь и рядом видишь, как номера журнала читают в электричках, автобусах, стоя в очередях. Первые впечатления разнообразны и сбивчивы, — в значащее художественное слово нужно глубоко вчитаться.
Этой цели и должна послужить книга, которую автору и его поколению не суждено было дождаться.
май 1988
Борис Пастернак.
Доктор Живаго
ПЕРВАЯ КНИГА
ЧАСТЬ первая.
ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ
1
Шли и шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, казалось, что её по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.
Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились.
Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Её». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».
Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные.
«Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать.
Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.
Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.
Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня.
К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.
2
Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.
К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу.
Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.
За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая её погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.
Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять.
То его пугало, что монастырскую капусту занесет и её не откопают, то что в поле заметет маму, и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.
Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.
3
Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.
А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра её два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.
Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей.
Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.