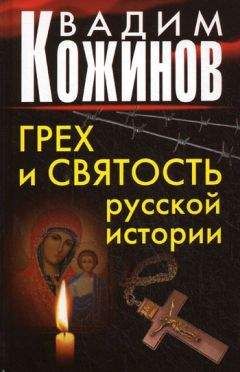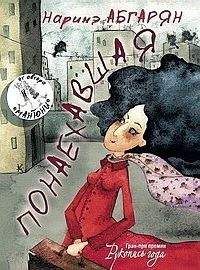Николай Лесков - На ножах
– Она бесчувственная деревяшка, – говорили одни, думая все разрешить этим приговором.
– Она суетна, мелка и фальшива; для нее совершенно довольно того, что она теперь генеральша, – утверждали другие.
– Да; но отчего же она не шла за Синтянина, когда он прежде просил ее руки? – ставили вопрос скептики для поддержания разговора.
– О, это так просто: ей тогда нравился Висленев, а когда бедный Жозеф попал в беду, она предпочла любви выгодный брак. Дело простое и понятное.
– Совершенно! Два заключения здесь невозможны.
Что она не любила Висленева или очень мало любила, это вполне доказывается тем, что даже внезапное известие об освобождении его и его товарищей с удалением на время в отдаленные губернии вместо Сибири, которую им прочили, Синтянина приняла с деревянным спокойствием, как будто какую-нибудь самую обыкновенную весть. Она даже венчалась именно в тот самый день, когда от Висленева получилось письмо, что он на свободе, и венчалась (как говорят), имея при себе это письмо в носовом платке. Ее бесчувственность, впрочем, едва ли и потом нуждалась в каких-нибудь подтверждениях, так как вскоре стало известно, что когда ей однажды, по поручению старой Висленевой, свояк последней, отставной майор Филетер Иванович Форов, прочел вслух письмо, где мать несчастного Иосафа горько укоряла изменницу и называла ее «змеею предательницей», то молодая генеральша выслушала все это спокойно и по окончании письма сказала майору:
– Филетер Иванович, не хотите ли закусить?
Добрые и искренние чувства в молодой генеральше не допускались, хотя лично она никому никакого зла и не сделала и с первых же дней своего брака не только со вниманием, но и с любовью занималась своею глухонемою падчерицей – дочерью умершей Флоры; но это ей не вменялось в заслугу, точно всякая другая на ее месте сделала бы несравненно больше. Говорили, что это для нее самой служит развлечением, так как двое собственных ее детей, которых она имела в первые годы замужества, умерли в колыбельном возрасте. Отца и мать своих любила Синтянина, но ведь они же были и превосходные люди, которых не за что было не любить; да и то по отношению к ним у нее, кажется, был на устах медок, а на сердце ледок. По крайней мере носились слухи, что будто, вскоре после замужества Александры Ивановны, генерал, ее супруг, вызвался исходатайствовать ее отцу его прежнее служебное место, но генеральша будто даже отклоняла это, хотела погордиться на стариковский счет.
И в самом деле, нечто в этом роде было, но было вот как: Гриневич посоветовался с дочерью, принять или не принять обязательное предложение?
Она спокойно отвечала отцу, что можно принять и не принять.
– То-то, кажется, нет зазора принять! – резонировал старик.
– Пожалуй, зазора нет, – ответила ему дочь.
– А не принять как будто еще достойнее?
– А уж про это и говорить нечего.
– Так я сам лучше поблагодаря и не приму?
– Сделавши так, ты, папа, поступишь как следует.
– Правда: ведь я, дитя мое, уж стар.
– Конечно, тебе уж шестьдесят пять лет!
– Ну да, уж не до службы, а денег хоть и мало…
– Да не на что тебе их больше, папа.
– Совершенная правда! ты пристроилась, а мы стары. Нет; да мимо меня идет чаша сия![5] – решил, махнув рукой, старый Гриневич и отказался от места, сказав, что места нужны молодым, которые могут быть на службе гораздо полезнее старика, а мне-де пора на покой; и через год с небольшим действительно получил покой в безвестных краях и три аршина земли на городском кладбище, куда вслед за собою призвал вскоре и жену.
Генеральша осиротела. Нива смерти зреет быстро. Вслед за Гриневичами умерла вскоре и старуха
Висленева. Проживая с год при сыне в одном из отдаленных городов и затем в Петербурге, она вернулась домой с окончившею курс красавицей дочерью, Ларисою, и не успела путем осмотреться на старом пепелище в своем флигельке, как тоже скончалась.
С Александрой Ивановной старуха вначале избегала встречи и сближения, но в последнее время своей жизни пламенела к ней благоговейною любовью. Этот всех удививший переворот в чувствах доживавшей свой век Висленевой к молодой генеральше не имел иных объяснений, кроме старушечьей прихоти и фантазии, тем более что произошло это вдруг и неожиданно.
Старуха в тяжкой болезни однажды спала после обеда и позвонила. В комнатах никого не случилось, кроме Синтяниной, пришедшей навестить Ларису. Генеральша взошла на зов старушки, и через час их застали обнявшихся и плачущих.
С этих пор собственное имя Александры Ивановны не произносилось устами умиравшей старушки, а всякий раз, когда она хотела увидать генеральшу, она говорила: «Пошлите мне мою праведницу».
Умирая, Висленева не только благословила Синтянину, ей же, ее дружбе и вниманию поручила и свою дочь, свою ненаглядную красавицу Ларису.
Все знали, что эта дружба не доведет Ларису до добра, ибо около Синтяниной все фальшь и ложь.
Ныне, то есть в те дни, когда начинается наш рассказ, Александре Ивановне Синтяниной от роду двадцать восемь лет, хотя, по привычке ни в чем не доверять ей, есть охотники утверждать, что генеральше уже стукнуло тридцать, но она об этом и сама не спорит. Физическая жизнь ее в полном расцвете. Довольно заметная полнота стана генеральши нимало не портит ее высокой и стройной фигуры, напротив, эта полнота идет ей. Полные руки ее с розовыми ногтями достойны быть моделью ваятеля; шея бела, как алебастр, и чрезвычайно красиво поставлена в соотношении к бюсту, служащему ей основанием. Густые, светло-каштановые волосы слегка волнуются, образуя на всей голове три-четыре волны. Положены они всегда очень просто, без особых претензий. Все свежее лицо ее дышит здоровьем, а в больших серых глазах ясное спокойствие души. Она не блондинка, но всем кажется блондинкою: это тоже какой-то обман. В лице ее есть постоянно некоторая тень иронии, но ни одной черты, выражающей злобу. Походка ее плавна, все движения спокойны, тверды и решительны.
Образ жизни генеральши в ее городской квартире ив загородном хуторе, где она проводит большую часть своих дней в обществе глухонемой Веры, к крайнему неудовольствию многих, почти совсем неизвестен.
Общество видит только нечто странное в этих беспрестанных перекочевках генеральши из городской квартиры на хутор и с хутора назад в город и полагает, что тут что-нибудь да есть; но тут же само это общество считает все составляющиеся насчет Синтяниной соображения апокрифическими.
Но чем же живет она, что занимает ее и что дает ей эту неодолимую силу души, крепость тела и спокойную ясность полусокрытого взора? Как и чем она произвела и производит укрощение своего строптивого мужа, который по отношению к ней, по-видимому, не смеет помыслить о каком-либо деспотическом притязании?
Это долго занимало всех. Все уверены, что здесь непременно есть какая-нибудь история, даже очень важная и, может быть, страшная история. Но, как ее проникнуть? Вот вопрос.
Глава вторая
Вся впереди
Во флигеле, построенном в глубине двора Висленевых и выходящем одною стороной в старый, густой сад, оканчивающийся крутым обрывом над Окою, живет сама собственница дома, Лариса Платоновна Висленева, сестра знакомого нам Иосафа Платоновича Висленева, от которого так отступнически отреклась Александра Ивановна. Флигель построен с большим комфортом. По довольно высокому крылечку, равному высоте нижнего полуэтажа, вы входите в светлые, но очень тесные сени, в которых только что можно поворотиться. Отсюда дверь в переднюю тоже очень чистую, с двумя окнами на двор; из передней налево большая комната с двумя окнами в одной стене и с итальянским окном в другой. Эта комната называется «Жозефов кабинет». Несмотря на то, что Иосаф Платонович здесь давно не живет, комната его сохраняет обстановку кабинета человека хотя и небогатого, но не бедного. Мягкие диваны кругом трех стен, два шкафа с книгами; большой письменный стол, покрытый зеленым сукном с кистями по углам, хорошие шторы на окнах, тяжелые занавесы на дверях. По стенам висят несколько гравюр и литографий, между которыми самое видное место занимают Ревекка с овцами у колодца[6]; Лаван, обыскивающий походный шатер Рахили, укравшей его богов[7], и пара замечательных по своей красоте и статности лошадей в английских седлах; на одной сидит жокей, другая идет в поводу, без седока. Обе лошади в своем роде совершенство: на них нельзя не заглядеться после горбатых верблюдов, дремлющих на библейских картинах. Опененные губы первого коня показывают, что он грызет и сжимает железо удил, но идет мирно и тихо, потому что знает власть и силу узды, но другой конь… О, ему опыт еще незнаком. Но это сказочный конь, которому только нужно прикосновение руки сказочного же царевича, и вихрь-конь взовьется выше леса стоячего.
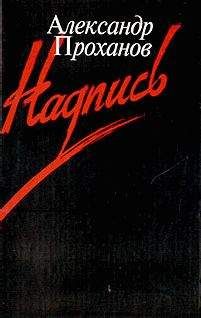
![Евгений Сартинов - Гороскопы всегда врут [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)