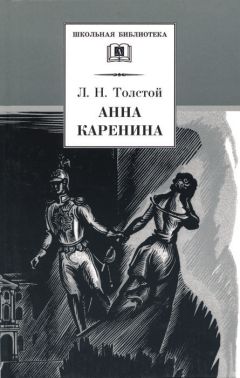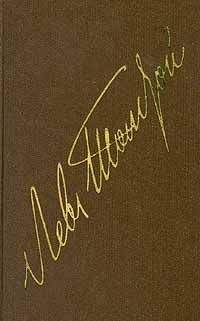Лев Толстой - Анна Каренина
«На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи стары, четвертые – тугосиси; ни масла, ни молока даже детям не доставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, – все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, – весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их». Перечисление того, чего не было, посвящает нас в заботы, занятия и даже в образ мыслей Долли. Так могли увидеть деревенский дом в Ергушеве она и ее дети, беспомощные в большом хозяйстве без хозяина. Вся усадьба смотрит на нее как «страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался».
От проблемы семьи Толстой естественно переходил к проблеме частной собственности и государства. В этом смысле деятельность Каренина, «государственного человека», занятого писанием «никому не нужных проектов», и «распорядительность» Облонского, который привел в упадок и запустение свое наследственное достояние, представляли для него огромный интерес. То были не только романтические, но социальные и исторические подробности эпохи. Описание Ергушева в «Анне Карениной» совершенно совпадает с тем, что писал о дворянском землевладении в 70-е годы один из самых проницательных публицистов той эпохи, А. Энгельгардт. В письмах из деревни он отмечал, что «хозяйничать в настоящее время невозможно… имения ничего, кроме убытка, не дают. …никто в деревне не живет, никто хозяйством не занимается, все служат, все разбежались, и где находятся, бог их знает».[27] Так раскрывалось конкретное значение общей формулы «у нас все это переворотилось и только еще укладывается…».
Разрушение семьи, а точнее – семейного и социального уклада дворянства, было в глазах Толстого признаком глубокого кризиса всего общества в целом. Но он не был разрушителем семейного начала. Напротив, он утверждал, что в «Анне Карениной» больше всего любил именно «мысль семейную». Ему нужен был идеал «трудовой, чистой, общей и прелестной жизни». И этот идеал его герой Левин находит в народной жизни. На сенокосе Левин внимательно присматривается к Ивану Парменову. Тот принимал, разравнивал и отаптывал огромные навилины сена, которые ему ловко подавала его молодая красавица хозяйка. «В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь». Только здесь Толстой видел гармонию и смысл жизни и обстановку счастья. «Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью, но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к своей жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную и праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Без Левина не было бы и романа. История Анны Карениной обретает свое настоящее значение в свете духовных и социальных исканий Левина. Не случайно именно Левин лучше других понимает эту трагедию. И только от него Анна «не хотела скрывать всей тяжести своего положения».
Критическое начало в романе «Анна Каренина» тем особенно сильно, что оно рельефно рисуется на глубоком фоне положительных идеалов Толстого. А его положительные идеалы неразрывно связаны с народной жизнью. Левин «точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж не мог выбраться, не отворотив борозды».
5В романе логика событий складывается таким образом, что возмездие следует по пятам за героями. Толстой говорил о нравственной ответственности человека за каждое свое слово и каждый свой поступок. К роману он взял грозный эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но он писал не притчу, не иллюстрацию к библейскому изречению, а современный роман. Некоторая «фатальность» не только социальных, но и личных отношений представлялась Толстому тайной, которую не могут понять отдельные люди, как бы они ни были умны, но которая разрешается временем, когда постепенно открывается внутренняя связь близких причин и далеких следствий. И здесь опять народная точка зрения была для Толстого определяющей. «Унижением, лишениями всякого рода им (народом) куплено дорогое право быть чистым от чьей бы то ни было крови и от суда над ближним», – пишет Толстой (20, 555). Поэтому мысль эпиграфа складывается из двух основных понятий: «нет в мире виноватых» и «не нам судить». Мать Вронского сказала об Анне Карениной: «Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала себе подлую, низкую». И Кознышев ответил ей: «Не нам судить, графиня. Но я понимаю, как для вас это было тяжело».
Левин сначала, не зная Анну, строго осуждал ее. Но потом, увидев и поняв ее, задумчиво произнес: «Не то что умна, но сердечна удивительно. Ужасно жалко ее». Толстой не искал «виноватых», он старался понять, а значит, и простить «невиновных». Он не признавал за графиней Вронской и за всей «светской чернью», приготовившей «комки грязи», права быть судьей Анны. «В ответ на суд толпы лукавой скажи, что судит нас иной»,[28] – эта мысль Лермонтова была очень близка автору «Анны Карениной». Толстой не хотел быть ни адвокатом, ни прокурором Анны. Но был летописцем, не пропустившим ничего из трагедии ее жизни. Идея возмездия, выраженная в эпиграфе, отнесена не только и даже не столько к истории Анны и Вронского, сколько ко всему обществу, которое нашло в лице Толстого своего сурового бытописателя. «Во всем возмездие, во всем предел, его же не прейдеши» (48, 118). Эти слова Толстого являются ключом к художественной системе его романа.
«Толстой указывает на „Аз воздам“, – пишет Фет, – не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей».[29] «Сказано все то, что я хотел сказать», – заметил Толстой по поводу статьи Фета об «Анне Карениной» (62, 339).
«Анну Каренину» Толстой называл «романом широким и свободным». В основе этого определения – пушкинский термин «свободный роман». Не фабульная завершенность положений, а творческая концепция определяет выбор материала и открывает простор для развития сюжетных линий. Жанр свободного романа возникал на основе преодоления литературных схем и условностей. «Я никак не могу и не умею положить вымышленным лицам известные границы – как-то женитьба или смерть, – признавался Толстой. – …Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» (13, 55). Роман «Анна Каренина» продолжался и после гибели его героини – Анны Карениной. Больше того, Левин на протяжении почти всего романа не видит Анну Каренину. «Связь постройки, – отмечал Толстой, – сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (62, 377). А внутренние отношения истории Анны и Левина определяются закономерностями самой жизни, взятой во всем ее историческом своеобразии. Так что история Анны неотделима от истории Левина, если говорить о романе Толстого как о художественном единстве. Смерть Анны и жизнь Левина, сумевшего преодолеть «угрозу отчаяния», в равной мере освещены светом «самобытно-нравственного» отношения Толстого к действительности. Поэтому Толстой и говорил, что «цельность художественного произведения заключается в ясности и определенности того отношения автора к жизни, которое пропитывает все произведение».[30] В «свободном романе» есть не только свобода, но и необходимость, так что нельзя взять из него одну какую-то часть, не нарушив целого.
«Закон природы смотрит сам // За всем…» – привел Фет строку из Шиллера, говоря об «Анне Карениной».[31] И с этим Толстой также был согласен. Он заботился о том, чтобы сохранить живое дыхание жизни в своем произведении. И называл свой излюбленный жанр «романом широкого дыхания»: «как бы хорошо писать роман de long halein (широкого дыхания), освещая его теперешним взглядом на вещи» (52, 5).
Каждое новое произведение Толстого было настоящим открытием для читателя. Но оно было открытием и для автора. «Содержание того, что я писал, – признавался Толстой, – мне было так же ново, как и тем, которые читают» (65, 18).
Роман «широкого дыхания» привлекал Толстого тем, что в «просторную, вместительную раму» без напряжения входило все то новое, необычайное и нужное, что он хотел сказать людям.