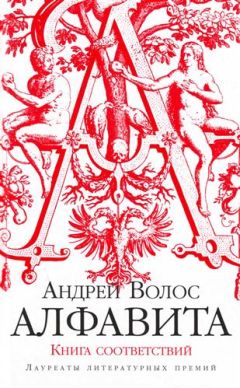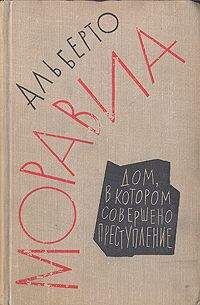Альберто Моравиа - Конформист
Возможно, он решился бы признаться родителям в убийстве кошки, если бы в тот же вечер за ужином у него не появилось ощущение, что они уже все знают. Сидя за столом, он заметил со смешанным чувством испуга и какого-то непонятного облегчения, что отец и мать в дурном настроении и держатся враждебно. Мать, с выражением преувеличенного достоинства на детском лице, сидела прямо, опустив глаза, замкнувшись в негодующем молчании. Сидящий напротив отец иными, но не менее красноречивыми способами показывал, что раздражен. Отец был много старше матери и часто озадачивал Марчелло тем, что относился к нему и матери, словно к двум детям, и требовал послушания, словно мать приходилась Марчелло сестрой. Отец был худ, его сухое морщинистое лицо отличалось невыразительным, почти неживым блеском выкаченных глаз и частым судорожным подергиванием щеки, только изредка он позволял себе усмехнуться, и то коротко и безрадостно. Многие годы, проведенные в армии, выработали в нем привычку к точности жеста, к строгости манер. Но Марчелло знал, что, когда отец бывал рассержен, строгость и чопорность становились чрезмерными и превращались в странную, сдерживаемую ярость, придававшую особый смысл обыденным жестам. В тот вечер, сидя за столом, Марчелло сразу заметил, что отец с силой подчеркивал, словно желая привлечь к ним внимание, самые обычные, ничем не примечательные жесты. Например, он брал стакан, отпивал глоток и ставил стакан, сильно ударив им по столу. Или пододвигал к себе солонку и, взяв щепотку соли, со стуком водружал ее на место. Схватив хлеб, отламывал кусок, и вновь раздавался удар хлебницей о стол. Вдруг, охваченный внезапной страстью к симметрии, принимался все так же шумно раскладывать приборы так, чтобы нож, вилка и ложка располагались вокруг тарелки под прямым углом. Если бы Марчелло был меньше озабочен собственными переживаниями, он бы сразу заметил, что эти жесты, исполненные столь многозначительной и патетической энергии, предназначались не ему, а матери. Та, действительно, при каждом стуке, высокомерно вздохнув, с достоинством замыкалась в себе и вздергивала брови, демонстрируя выдержку. Но Марчелло, ослепленный своими заботами, был уверен, что родители все знают: разумеется, Роберто, известный трусишка, выследил его. Марчелло хотелось, чтобы его наказали, но, увидев родителей в гаком гневе, он вдруг почувствовал внезапную дрожь, зная, что в подобных обстоятельствах отец способен на припадки ярости. Подобно тому, как проявления любви со стороны матери были нечастыми, случайными, явно продиктованными скорее укорами совести, нежели материнскими чувствами, так и строгость отца бывала неожиданной, неоправданной, чрезмерной и вызванной желанием наверстать упущенное за долгие периоды бездействия, а не серьезными педагогическими намерениями. Жалоба матери или кухарки вдруг напоминала отцу, что у него есть сын, и он начинал орать, неистовствовать и бить мальчика. Побои особенно пугали Марчелло, потому что отец носил на мизинце камень в массивной оправе, и во время наказаний, неизвестно каким образом, камень всегда поворачивался к внутренней стороне ладони, и к жестокому унижению от пощечин прибавлялась еще и острая боль. Марчелло подозревал, что отец специально поворачивал перстень, но уверен не был.
Оробев и испугавшись, Марчелло в спешке начал изобретать какую-нибудь приемлемую ложь: это не он убил кошку, а Роберто, в самом деле, кошка ведь находилась в саду Роберто, да и как бы он мог ее убить через плющ и ограду? Но потом он внезапно вспомнил, что вчера вечером сам признался матери в убийстве кошки, которое действительно произошло на следующий день, и понял, что всякая ложь исключалась. Как мать ни была рассеянна, она, конечно, сказала отцу об их разговоре, а тот, разумеется, сразу же установил связь между признанием сына и обвинением со стороны Роберто, таким образом, отвертеться не было никакой возможности. При этой мысли, кидаясь из одной крайности в другую, Марчелло вдруг вновь захотел, чтобы его наказали, причем как можно быстрее и решительнее, но каким должно было быть наказание? Он вспомнил, как Роберто однажды говорил ему о пансионах, куда родители помещают строптивых детей, и с удовольствием обнаружил, что ему очень хотелось бы такого наказания. В этом желании подсознательно сказалась усталость от беспорядочной, лишенной любви и ласки жизни в семье. Марчелло надеялся, что таким образом ему удастся успокоить свою совесть и его состояние улучшится. Мысль о пансионе сразу вызвала в его воображении картины, которые должны были бы наводить уныние, но ему, напротив, были приятны: строгое холодное серое здание с окошками, забранными железными решетками; ледяные голые комнаты с высоким потолком и белыми стенами, где выстроились в ряд кровати; пустынные коридоры, темные лестницы, массивные двери, неприступная ограда — словом, все, как в тюрьме, но для него такая обстановка была предпочтительнее, чем зыбкая, томительная, невыносимая свобода отчего дома. Даже мысль о том, что придется носить полосатую форму и ходить с бритой головой, что было унизительно и почти противно, — даже эта мысль казалась Марчелло приятной в его нынешнем безнадежном стремлении к порядку и нормальности, какой бы она ни была.
Погрузившись в свои фантазии, Марчелло смотрел уже не на отца, а на ослепительно белую скатерть. Ночная мошкара, влетев в распахнутое окно и ударившись об абажур лампы, падала на нее. Потом он поднял глаза и как раз успел увидеть прямо за спиной отца, на подоконнике, силуэт кошки. Но животное, прежде чем он разглядел, какого оно цвета, спрыгнуло вниз, пересекло столовую и скрылось на кухне. Хотя Марчелло не был ни в чем уверен, сердце его наполнилось радостной надеждой, что это та самая кошка, которая несколько часов тому назад лежала неподвижно среди ирисов в саду Роберто. Он порадовался такой своей реакции, ибо надежда означала, что в сущности жизнь животного была для него важнее, чем собственная судьба. "Кошка!" — громко воскликнул он. Бросив салфетку на стол и выпростав из-под стула одну ногу, он спросил:
— Папа, я поел, можно мне выйти из-за стола?
— Оставайся на своем месте, — с угрозой в голосе ответил отец.
Марчелло, оробев, все же отважился сказать:
— Но кошка жива!
— Я велел тебе оставаться на месте, — повторил отец. Слова Марчелло, нарушив долгое молчание, словно позволили заговорить и ему, и, обратившись к жене, он произнес: — Ну, скажи что-нибудь, говори!
— Мне нечего сказать, — ответила она с подчеркнутым достоинством, опустив глаза и презрительно скривив рот. Марчелло заметил, что в худых пальцах мать сжимала маленький платочек и часто подносила его к носу. Другой рукой она отщипывала кусочки хлеба и роняла их на стол, причем брала хлеб не пальцами, а кончиками ногтей, словно птичка.
— Скажи же что-нибудь… говори… черт возьми!
— Мне нечего тебе сказать.
Марчелло начал было понимать, что причина дурного настроения родителей — вовсе не убийство кошки, как вдруг ход событий убыстрился. Отец повторил:
— Да говори же!
Мать в ответ только пожала плечами. Тогда отец, схватив бокал, стоявший перед тарелкой рявкнул:
— Будешь ты говорить или нет? — и с силой ударил им об стол.
Бокал разбился, отец с проклятиями поднес ко рту раненую руку. Испуганная мать вскочила из-за стола и поспешно устремилась к двери. Отец почти со сладострастием высасывал кровь из раны, нахмурив брови. Но увидев, что жена уходит, он прервал свое занятие и крикнул:
— Я запрещаю тебе уходить!.. Ты поняла?
В ответ ему раздался стук с силой захлопнутой двери. Отец вскочил и бросился за женой. Возбужденный бурной сценой, Марчелло последовал за ним.
Отец уже поднимался по лестнице, держась рукой за перила, внешне спокойный и неторопливый. Но шедший за ним Марчелло видел, что он шагает через две ступеньки, молча взлетая на площадку второго этажа. Словно сказочный людоед в семимильных сапогах, подумал Марчелло, ничуть не сомневаясь, что размеренная и угрожающая поступь отца возьмет верх над беспорядочным и поспешным бегством матери, которой мешала узкая юбка. "Сейчас он убьет ее", — подумал он, следуя за ними. Оказавшись на втором этаже, мать бросилась к своей комнате, но не успела закрыть дверь, и отцу удалось прорваться к ней. Когда Марчелло поднялся наверх, то заметил, что шум ссоры внезапно сменился тишиной. Дверь материнской комнаты оставалась открытой. Марчелло в нерешительности застыл на пороге.
Вначале в глубине комнаты, по обеим сторонам широкой низкой кровати, стоявшей у окна, он увидел только две большие легкие занавески, которые задувало сквозняком, к самому потолку, они почти касались люстры. Эти бесшумно парящие полосы ткани, белевшие в темноте комнаты, создавали ощущение пустоты, словно родители Марчелло вылетели в распахнутые окна и исчезли в летней ночи. Потом в полосе света, падавшего из коридора через дверь и освещавшего кровать, он наконец разглядел родителей. Точнее, увидел только отца, со спины. Он почти закрывал собою мать, виднелись только ее разметавшиеся по подушке волосы и поднятая к спинке кровати рука. Мать судорожно, но безуспешно пыталась ухватиться за спинку, в то время как отец, навалившись на нее всем телом, делал руками такие движения, словно хотел удушить. "Он убивает ее", — убежденно подумал Марчелло, стоя на пороге. В этот момент он испытывал необычное чувство воинственного и жестокого возбуждения и вместе с тем желание вмешаться в борьбу, но он и сам не знал толком, чего ему хотелось — помочь отцу или защитить мать. Вместе с тем его манила надежда, что это преступление, куда более тяжкое, перечеркнет его собственный проступок: в самом деле, что такое убийство кошки по сравнению с убийством женщины? Но в тот самый момент, когда, поборов последние сомнения, завороженный, он двинулся вперед, мать пробормотала тихим, ласковым и вовсе не сдавленным голосом: "Пусти меня", и, как бы противореча этим словам, ее поднятая рука, искавшая спинку кровати, опустилась и обвила шею отца. Удивленный, Марчелло отступил назад и вышел в коридор.