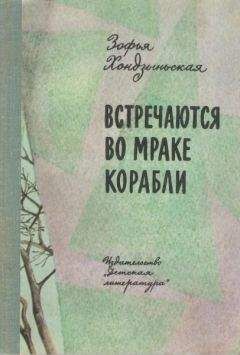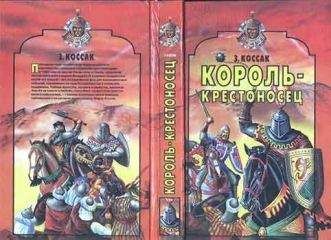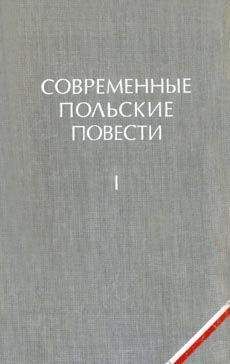Зофья Посмыш - Пассажирка
— В чем? — спросила она шепотом.
— В том, что необходимо убедить мир: «Немец — это не значит убийца». Нет, Штрайт это формулирует иначе. Остроумнее. «Это не обязательно значит убийца». — Вальтер засмеялся и повторил: — Не обязательно.
С Лизой опять творилось что-то неладное. Лицо ее побледнело, губы дрожали, веки нервно дергались. Несколько секунд она боролась с собой.
— Вальтер… Ты можешь свои споры с Бредли вести не в моем присутствии?
— Но, Лизхен…
— Не могу я их слушать. Просто не в состоянии. Ты говорил, что путешествие будет отдыхом, удовольствием…
— Ты права, — помолчав, ответил он виновато. — Ясно…
К радости обоих, появился Бредли, еще издали показывая бутылку — должно быть, редкостную добычу. Это был моложавый мужчина мальчишеского склада, ставшего теперь модным благодаря американским фильмам. У этого «мальчишки» были совсем седые виски, глубокие складки в углах рта и детская улыбка.
— Специально для вас, фрау Кречмер, — сказал он на ломаном немецком языке. — Вы только взгляните… Я раздобыл ее не без труда.
Он наполнил рюмки.
— Вы разрешите мне выпить за наше путешествие и более близкое знакомство?
Лиза улыбнулась.
— Нам будет очень приятно.
— И за доктора Штрайта, который нас познакомил. Теперь я вижу, что он хороший стратег.
— С доктором Штрайтом, — сказал Вальтер, — мы почти друзья.
— Наверно, все же не такие, как мы с ним, — засмеялся Бредли. — У нас с ним дружба особая. Он для меня останется навсегда первым, моим первым с той стороны, точно так же, как я для него — первым с этой стороны. Но ваша жена не знает, в чем дело. Так вот, я познакомился с доктором Штрайтом, когда, взломав ворота Дахау…
— Простите, — улыбаясь, прервал его Вальтер, — моя жена не входит в число тех людей, с которыми «можно говорить обо всем».
Бредли смутился.
— У нее… слишком слабые нервы, — добавил Вальтер.
— О, очень жаль, что вы меня не предупредили! Я бы никогда не позволил себе… По сути дела, фрау Кречмер совершенно права. Здесь не место, да и не время для таких воспоминаний. Кроме того, мне следовало догадаться, что вас вообще не могут интересовать эти мрачные истории. Войну вы, наверно, плохо помните, ведь вы тогда были еще ребенком…
Воцарилось неловкое молчание. Лиза бросила что-то вроде «ничего, ничего», смущенно добавила еще несколько слов, замолчала и выжидающе посмотрела на Вальтера. Тот, однако, не торопился откликнуться на ее немую мольбу и спокойно, не чувствуя, казалось бы, неловкости положения, закуривал сигарету, которую протянул ему Бредли. В это время в соседнем зале снова заиграл оркестр. Это было чрезвычайно кстати. Через открытую дверь видны были танцующие пары. Можно было проявить к ним интерес, пусть даже притворный, и таким образом преодолеть неловкость. И все трое, ухватившись за эту возможность, быстро, как-то даже слишком быстро, повернулись в сторону зала.
— Странная компания, — заметил Вальтер, указывая на группу, сидевшую неподалеку от оркестра, вокруг сдвинутых столиков, как на совещании.
— Это какая-то международная организация участников второй мировой войны, — пояснил Бредли.
— Любопытный состав… Даже пастор есть.
— Причем немецкий пастор, если хотите знать, — улыбнулся Бредли. — Они едут в Америку на одну из антивоенных конференций.
Он кому-то поклонился.
— Вы знакомы с кем-нибудь из них? — спросила Лиза.
— Нет, просто вон та дама едет в каюте номер сорок пять, мы с ней соседи. Встречаемся в коридоре.
— Ведь это… — начал было Вальтер, но, взглянув на жену, осекся. — У нее странные глаза. Она смотрит как будто… сквозь тебя.
Рука у Лизы дрогнула. Немного вина пролилось на скатерть.
В эту минуту незнакомка наклонилась к своему соседу. Тот кивнул и, подойдя к дирижеру, что-то шепнул ему. Многозначительная, чуть лукавая улыбка, с какою дирижер слушал говорившего, обещала нечто пикантное, какой-то маленький сюрприз. Разговоры в зале умолкли, и в тишину ворвалась вбселая песенка:
Нет, не нужны мне миллионы,
Без денег можно жизнь прошить,
Хотел бы быть всегда влюбленным,
И петь и пить, и петь и пить,
И петь и пить!
— Остряки, — улыбнулся Вальтер. — Нашли «боевик». Это, наверно, из какой-нибудь старинной оперетты. Ты не помнишь, Лизхен?
Она отрицательно покачала головой, отвернулась и оперлась локтями на край стола. Пустая рюмка дрожала у нее в руке. Она поставила рюмку. Незнакомка поднялась, подошла к дверям бара и, остановившись, (обвела взглядом зал. Глаза ее встретились с глазами Вальтера.
— Вы понравились этой даме… — улыбнулся Бредли.
— У этой вашей дамы удивительные глаза, — ответил Вальтер. — Я совсем не уверен, что она меня видит, хотя и глядит на меня.
Лиза поднялась.
— Извините, пожалуйста. Я сейчас вернусь…
Солист был в ударе. Он явно гордился своим умением пародировать старомодную манеру исполнения.
Нет, не нужны мне миллионы,
Без них могу быть счастлив я,
В тебя, как в музыку, влюбленный,
Любовь моя, любовь моя,
Любовь моя!
Незнакомка по-прежнему стояла неподвижно и смотрела. Она не вздрогнула, даже когда раздались аплодисменты. И только потом медленно вернулась в зал, к своей компании.
Лиза все не возвращалась.
— Не случилось ли чего с вашей супругой? — забеспокоился Бредли.
Вальтер извинился. Надо посмотреть, что с ней. Она и раньше чувствовала себя неважно.
Лиза полулежала в кресле. Глаза у нее были закрыты, и, когда Вальтер вошел, она не шевельнулась.
— Неужели тебе так плохо, родная? — спросил он, подойдя к ней.
— Да, мне плохо.
— Я сейчас пойду за врачом.
— Не надо!
— Я тебя не понимаю. Если ты больна…
— Я уже приняла таблетки. Здесь все равно ничего другого нет…
Он присел возле Лизы и взял ее за руку.
— Лизхен, милая, что с тобой? Скажи мне.
— Наверно… морская болезнь.
Несколько секунд он молча смотрел на нее, потом спросил:
— Ты уверена?
— Не знаю… Очень укачивает.
— Ну ладно, — сказал он. — Ладно. Не хочешь врача — не надо. Чем я могу тебе помочь? Что мне делать?
Она ответила, не открывая глаз:
— Я не хочу тебе мешать. Вернись к Бредли. — Но тут же, как будто внезапно испугавшись, добавила: — Только, Вальтер, не оставайся там долго.
* * *—…Я не совсем с вами согласен, мистер Бредли, не совсем. Особенно с тем тезисом, который можно было бы, правда несколько упрощенно, сформулировать вслед за вами как «попустительство преступлению». Вы сказали, что именно в этом «попустительстве преступлению» состоит, на ваш взгляд, самая большая вина немецкого народа, равная по своим психологическим последствиям тому… «подвигу», чудовищность которого вряд ли мог предвидеть Фихте, создавая свою теорию. Так вот, я не совсем согласен с вашими выводами, хотя почти полностью принимаю предпосылки, на которых эти выводы основаны.
Я верю, что вы встречали в Германии людей, которые, быстро забыв, кто втянул человечество во вторую мировую войну, стоившую десятки миллионов жизней, говорят о несправедливости, постигшей Германию, и, хуже того, искренне верят, что это несправедливость. И я согласен: это идеальная почва для взращивания новых бредовых идей, к восприятию которых, как вы выразились, так склонна отравленная мистицизмом немецкая душа.
Я верю вашему рассказу о человеке, который прожил пятьдесят лет рядом с Дахау и сказал вам, что не знает, что там творилось. Большинство немцев отвечает в подобных случаях: «Не знаю». Они не знали тогда, когда дымились печи крематориев, когда они принимали в качестве «помощи» разные вещи, оставшиеся от казненных, — почему же они должны знать теперь, когда «исторический подход» дает им возможность смотреть на события издалека, сохранять высокомерное равнодушие?