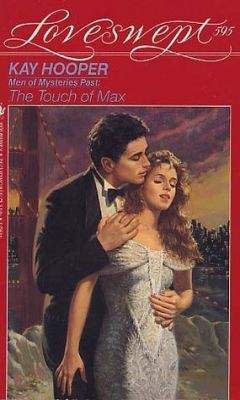Виктор Гюго - Отверженные (Перевод под редакцией А. К. Виноградова )
Говорил он еще: «Учите, чему можете, несведущих; общество преступно: не давая бесплатно образования, оно ответственно за распространение мрака. В темной душе зарождается грех. Преступен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».
Как видите, у него был странный и своеобразный способ суждения. Я подозреваю, что он почерпнул свои мысли в Евангелии.
Он слышал однажды рассказ об одном уголовном деле, по которому происходило следствие и в скором времени должен был последовать суд. Один несчастный, из любви к женщине и к ребенку, родившемуся от нее, истощив все усилия в борьбе с нуждой, стал изготавливать фальшивые деньги. В ту эпоху фальшивомонетчики еще наказывались смертью. Женщина была арестована при сбыте первой фальшивой монеты. Она была в руках правосудия, но улик против нее недоставало. Она одна могла выдать любовника и погубить его признанием. Она все отрицала; ее продолжали допрашивать. Она упорствовала. Тогда прокурору пришла в голову уловка. Он оклеветал любовника в неверности, и ему удалось, с помощью обрывков писем, искусно подобранных, уверить несчастную, что у нее была соперница и что человек, любимый ею, обманывал ее. Тогда, выведенная из себя ревностью, она выдала любовника, призналась во всем, все доказала. Любовника ждала смерть. Его должны были скоро судить в Эксе вместе с сообщницей. Случай этот рассказывали и восхищались ловкостью прокурора. Затронув ревность, он извлек истину из гнева и правосудие из мести. Епископ выслушал все молча. По окончании рассказа он спросил:
— Где будут судить этого человека и эту женщину?
— В окружном суде.
— А где будут судить королевского прокурора?
В Дине случилось трагическое происшествие. Одного человека приговорили за убийство к смертной казни.
Человек этот был не вполне образованный и не вполне невежда: он был ярмарочным акробатом и писцом. Процесс его был у всех на слуху. Накануне казни капеллан тюрьмы занемог. Нужно было достать другого священника для напутствия преступника. Послали за кюре. Он отказался, сказав, как кажется: «Это меня не касается; какое мне дело до этой требы и до этого акробата; я тоже нездоров; к тому же там не мое место». Ответ этот доложили епископу. — «Кюре прав, — сказал последний, — это не его место, а мое». Он немедленно отправился в тюрьму, вошел в камеру акробата, назвал его по имени, взял его за руку и говорил с ним. Он провел весь этот день с узником, забыв про пищу и сон, молясь Богу за душу осужденного и моля осужденного за собственную душу. Он ему говорил о лучших истинах, то есть о самых простых. Он был ему отцом, братом и другом, вспоминая о своем сане епископа только для того, чтобы благословлять. Он просветил его, утешая и ободряя его. Человек этот умирал в отчаянии. Смерть была для него пропастью. Стоя, трепещущий, на краю этой бездны, он пятился в ужасе. Он был не настолько невежествен, чтобы сохранить полное равнодушие. Приговор, глубоко потрясший его, разрушил перегородку, отделяющую нас от таинственных вещей, называемых нами жизнью. Он постоянно вглядывался сквозь эти роковые щели в то, что стоит за пределами мира, и видел одни потемки. Епископ указал ему свет.
На следующий день, когда пришли за несчастным, епископ был у него. Он провожал его и показался толпе в своей фиолетовой мантии и с епископским крестом на груди, бок о бок с преступником, связанным веревками. Он взошел с ним на позорную колесницу; он взошел с ним на эшафот. Приговоренный, мрачный и подавленный накануне, теперь сиял. Он чувствовал примирение в душе и ждал Бога. Епископ обнял его и в то мгновение, когда нож готовился опуститься, он проговорил: «Убитого человеком воскресит Господь; изгнанного братьями приемлет Отец. Молитесь, верьте, вступайте в вечную жизнь: Отец ваш там!» Когда он сходил с помоста, в его взгляде было нечто, заставившее толпу расступиться перед ним. Трудно сказать, что внушало более удивления — бледность ли его или его спокойствие. Возвратившись в свое скромное жилище, которое он шутя называл своим дворцом, он сказал: «Я отслужил архиерейскую службу».
Так как часто великие поступки менее всего понимаются, то в городе нашлись люди, говорившие, обсуждая его поступок: «Это театральность». Впрочем, это были только салонные отзывы. Народ, понимающий просто святость подвигов, был тронут и восхищен.
Что касается епископа, то зрелище эшафота потрясло его, и он долго не мог оправиться после него.
Вид эшафота, стоящего в действительности перед глазами, нагоняет ужас, похожий на галлюцинацию. Можно относиться с некоторым равнодушием к смертной казни, колебаться в своем мнении относительно пользы ее, пока не видел своими глазами гильотины; но когда случайно увидишь ее, то впечатление, производимое ею, глубоко, и приходится решительно сделать выбор в мнении за или против нее. Одни восторгаются ею, как де Местр, другие ненавидят ее, как Беккариа. Гильотина служит спайкой закону, она называется местью; она нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Видящий ее трепещет самым таинственным трепетом. Все общественные вопросы группируются около этого ножа и ставят вопросительные знаки. Эшафот — призрак. Это не подмостки и не машина, эшафот не бездушный аппарат из дерева, железа и веревок. Кажется, будто это своего рода существо, обладающее какой-то мрачной инициативой; так и чудится, что этот сруб видит, что этот снаряд понимает, что дерево, железо и веревки одарены волей. В тяжелом кошмаре, охватывающем душу в присутствии эшафота, он является страшным действующим лицом. Эшафот — сообщник палача; он пожирает человека: пьет его кровь и ест его мясо. Эшафот — род чудовища, сработанный судьей и плотником, род привидения, живущего какой-то страшной жизнью, сложившейся из всех его убийств.
Впечатление, произведенное на епископа, было глубокое и потрясающее; на следующий день после казни и еще много дней после нее епископ казался удрученным. Почти насильственное спокойствие роковой минуты исчезло, призрак общественного правосудия преследовал его. Он, обыкновенно выносивший из своей деятельности радостное удовлетворение, казался теперь недовольным собой. Иногда он разговаривал один, бормотал вполголоса мрачные монологи. Сестра его слышала однажды вечером, как он сказал следующее:
— Я не думал, что это так чудовищно.
Это ошибка — углубляться настолько в божеский закон, что теряешь законы человеческие.
Смерть во власти одного Бога. По какому праву люди прикасались к этой неведомой вещи?
Преосвященного Мириеля можно было во всякое время приглашать к изголовью больных и умирающих. Он знал, что это составляет его главную обязанность и труд. Осиротевшим семьям не нужно даже было звать его — он являлся к ним сам. Он умел просиживать долгие часы и молчать подле мужа, похоронившего жену, подле матери, лишившейся ребенка. Равно понимал он, когда следует молчать и когда говорить. О! Какой это был великий утешитель! Он не старался усыпить горе забвением, но старался возвысить и облагородить его надеждой. Он говорил: «Обратите внимание на то, с какой стороны вы думаете о вашем покойном. Не думайте о том, что гниет. Вглядитесь внимательно. Вы увидите светлый облик вашего дорогого усопшего на небе». Он знал, что вера целебна. Он старался успокоить своими советами человека в отчаянии, указывая ему на Того, Кто уже покорился судьбе, и силился превратить печаль, устремляющую взор в могилу, в печаль, устремляющую взор к звездам.
V.
Преосвященный Бьенвеню слишком долго носит сутаны
Домашняя жизнь епископа Мириеля была наполнена теми же заботами, как и жизнь общественная. Для того, кто мог бы видеть его вблизи, его добровольная бедность представляла бы зрелище поучительное и привлекательное.
Как все старики и как большинство мыслителей, он мало спал. Непродолжительный сон его был глубок. Утром он проводил около часа в размышлении, вслед за тем служил обедню или в соборе, или у себя на дому. После обедни он завтракал ситным хлебом с молоком, а затем работал. Епископ — человек занятой; ему всякий день приходится принимать секретаря епархии, по большей части каноника, и почти всякий день своих викариев. На нем лежит контроль конгрегации, раздача привилегий, просмотр целой духовной библиотеки: требников, приходских катехизисов, молитвенников и проч.; он должен писать пастырские послания, утверждать проповеди, разбирать ссоры кюре с мэрами, вести клерикальную и административную переписку, с одной стороны с государством, с другой — со Святым Престолом; словом, у него тысяча разных дел.
Свободное время от этих тысячи дел, службы и чтения требника он посвящал нуждающимся, больным и скорбящим; время, оставшееся от нуждающихся, больных и скорбящих, он отдавал работе. Он работал то в саду, то за письменным столом. Он обозначал оба эти вида труда одним словом: садовничать. «Ум — сад», — говорил он.