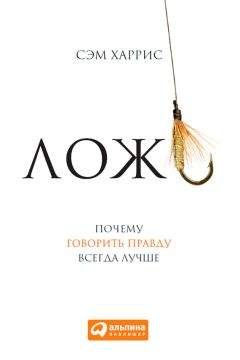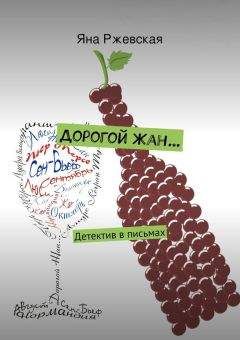Лион Фейхтвангер - Гойя или Тяжкий путь познания
Сквозь ветер и снег до него донесся звон колокольчика, а потом он увидел священника и мальчика-служку, которые, невзирая на непогоду, спешили со святыми дарами, по-видимому, к умирающему. Выругавшись про себя, достал он носовой платок, расстелил среди грязи и преклонил колени, как того требовали обычай, инквизиция и его собственное сердце.
Плохая примета — повстречать священника со святыми дарами, который спешит к умирающему. Не принесет ему добра эта женщина. «Лучше повстречаться в тупике с девятилетним быком, чем с женщиной, если тебя одолевает похоть», — пробормотал он про себя. Он вышел из народа и хранил в памяти суеверия и старые народные поговорки. Недовольно засопев, он пошел дальше под дождем и ветром, держась поближе к домам, так как посреди улицы грязь была по щиколотку. Вечно одни огорчения! И тут же он вспомнил мосье де Авре, французского посла. Вот написал его портрет, а француз не заплатил. Когда он в третий раз послал счет, ему дали почувствовать, что, ежели он не перестанет надоедать господину де Авре, это вызовет недовольство двора. Заказов хоть отбавляй, но получить деньги частенько бывает трудно. А расходы растут. Собственный выезд стоит дорого, слуги обнаглели и требуют все больше и больше да еще крадут; но ничего не поделаешь, раз ты придворный живописец, выкладывай денежки. Его покойный отец перевернулся бы в гробу, если б знал, что он, малыш Франчо, за два дня тратит столько, сколько вся семья Гойя расходовала в Фуэндетодос за целый год. Ну разве это не чудо, что он, Франсиско, может тратить столько? И он ухмыльнулся.
Он дошел до дома; серено, ночной сторож, отпер ворота. Гойя поднялся наверх, сбросил мокрое платье, лег спать. Но заснуть не мог. Накинув халат, пошел к себе в мастерскую. Было холодно. Он на цыпочках пробирался по коридору. Сквозь дверную щелку из комнаты слуги Андреев падал свет. Гойя постучал; уж если этот молодец получает пятнадцать реалов жалованья, пусть, по крайней мере, затопит. Полураздетый слуга неохотно выполнил приказание.
Гойя сидел и смотрел в огонь. По стене ползли тени, вверх, вниз, причудливые, жутко притягательные, угрожающие. На одной стене висел гобелен с изображением процессии; пляшущее пламя вырывало из тьмы отдельные куски: огромного святого, которого несли на носилках, дикие, исступленные лица толпы. Написанный Веласкесом кардинал с эспаньолкой, глядевший с другой стены мрачным, немного скучающим взглядом, казался в мерцании пламени призраком; древняя, почерневшая от времени деревянная статуэтка очаровательной в своей угловатости пречистой девы Аточской, покровительницы Гойи, насмехалась и угрожала.
Гойя встал, потянулся, расправил широкие плечи и, стряхнув с себя дремоту, принялся быстро ходить взад и вперед. Взял песок, насыпал на стол.
По песку чертить он начал.
Вскоре женщина нагая
Получилась. С томным видом
На полу она сидела,
Подогнув колени… Быстро
Гойя стер изображенье
И нарисовал вторую,
Тоже голую, девицу,
Танцевавшую фанданго.
Снова стер. И вот возникла
Женщина с осанкой гордой.
На плече кувшин… Но снова
Обратил ее в песок он.
Карандаш схватил, бумагу,
Набросал портрет четвертый:
Женщины с высоким гребнем,
В черной кружевной мантилье,
Оттенявшей мрамор тела.
Но, внезапно обессилев,
Засопев сердито носом,
Гойя разорвал рисунок.
3
Он работал. С холста глядела дама, очень красивая; в продолговатом насмешливом лице было что-то загадочное, точно скрытое маской, далеко расставленные глаза под высокими бровями, крупный рот с тонкой верхней и толстой нижней губой плотно сжат. Дама позировала ему уже три раза. Кроме того, он сделал много набросков. Теперь он заканчивал портрет. Обычно Гойя работал быстро и уверенно. Над этим портретом он корпел уже четвертую неделю: а портрет не удавался и не удавался.
Все было «верно». Именно такой и была эта дама, которую он хотел изобразить, он давно уже знал ее и не раз писал — она была женой его друга Мигеля Бермудеса. Все было тут: то невысказанное, насмешливое, то лукавое, что она затаила под маской светской дамы. Не хватало только какого-то пустяка, но в этом пустяке для него было все.
Однажды он увидел ее в гостях у дона Мануэля, герцога Алькудиа, всесильного фаворита, у которого Мигель Бермудес был доверенным секретарем. На ней было светло-желтое платье с белым кружевом; и он вдруг увидел ее всю, увидел то неуловимое, смущающее, бездонное, то самое важное, что было в ней. Она предстала перед ним в серебристом сиянии. Тогда при виде доньи Лусии Бермудес в светло-желтом платье с белым кружевом он сразу понял, какою он хочет ее написать, какою должен написать. Теперь он мучился над ее портретом, все было как надо — и лицо, и тело, и поза, и платье, и светлый серый фон, несомненно верный. И однако это было ничто, не хватало самого главного — оттенка, пустяка, но то, чего не хватало, решало все. В глубине души он знал, почему портрет не удается. Прошло уже больше чем полмесяца с того вечера во дворце герцогов Альба, а женщина на возвышении не давала о себе знать. Он чувствовал горечь. Ну не приходит сама, так могла бы хоть пригласить его и потребовать веер! Конечно, она занята своей дерзкой, нелепой затеей — своим замком в Монклоа. Он мог бы пойти к ней и без приглашения и отнести веер. Но этого не позволяла ему гордость. Она должна позвать. Она позовет. То, что произошло между ними на возвышении, нельзя просто смахнуть, как наброски, которые он рисовал на песке.
Франсиско был не один в мастерской. Как обычно, тут же работал его ученик и помощник Агустин Эстеве; помещение было просторное, и они не мешали друг другу.
Сегодня дон Агустин работал над конным портретом генерала Рикардоса. Холодное, угрюмое лицо старика генерала написал Гойя; изобразить лошадь и тщательно, до мелочей выписать мундир и медали, на точном воспроизведении которых настаивал генерал, он поручил добросовестному Агустину. Дон Агустин Эстеве, человек лет за тридцать, сухопарый, с большой шишковатой головой, с высоким выпуклым лысеющим лбом, с продолговатым острым лицом, впалыми щеками и тонкими губами, был неразговорчив; Франсиско же, от природы общительный, любил болтать за работой. Но сегодня он тоже молчал. Против обыкновения, он не рассказал даже домашним о вечере у герцогини Альба.
Агустин, как обычно, молча остановился за спиной у Гойи и рассматривал серебристо-серый холст с серебристо-серой женщиной. Он уже семь лет жил у Гойи, они целые дни проводили вместе. Дон Агустин Эстеве не был большим художником и с болью это сознавал. Зато он хорошо понимал живопись, и никто другой не видел так ясно, как он, в чем Франсиско силен, а в чем слаб. Гойя нуждался в нем, нуждался в его ворчливых похвалах, ворчливом порицании, немых упреках. Гойя нуждался в честной критике; он негодовал, он высмеивал, ругал критика, забрасывал его грязью, но он нуждался в нем, нуждался в признании и в неодобрении. Он нуждался в своем молчаливом, вечно раздраженном, тонко понимающем, много знающем судье, в своем сухопаром Агустине, который невольно наводил на мысль о семи тощих коровах; он ругательски ругал его, посылал к черту, любил. Он не мог жить без него, так же как и Агустин не мог жить без своего великого, ребячливого, обожаемого, несносного друга.
Агустин долго смотрел на портрет. Он тоже знал даму, которая так насмешливо глядела на него с полотна, он знал ее очень хорошо, он любил ее. Ему не везло у женщин, он сам понимал, что мало привлекателен. Донья Лусия Бермудес была известна в Мадриде как одна из немногих замужних дам, у которой не было кортехо — общепризнанного любовника. Франсиско, перед которым, пожелай он только, не устояла бы ни одна женщина, конечно, мог бы стать любовником доньи Лусии. То, что он явно этого не хотел, было приятно Агустину, но в то же время и обидно. Однако он был в достаточной мере знатоком, чтоб подойти к портрету только с художественной меркой. Он видел, что портрет хорош, но то, чего хотел Франсиско, не вышло. Он сожалел об этом и радовался. Он отошел, вернулся к своему большому полотну и снова принялся молча работать над крупом генеральской лошади.
Гойя привык, что Агустин стоит у него за спиной и смотрит на его работу. Портрет доньи Лусии не удался, но все же то, что он сделал, было ново и дерзновенно, и он с нетерпением ждал, что скажет Агустин. Когда же тот снова молча уселся перед своим конным генералом, Гойя пришел в ярость. Ну и наглец же этот недоучка, а давно ли, кажется, он кормился даровыми обедами! Что бы этот несчастный делал, если бы не он, Франсиско? Жалкий кастрат! Вздыхает по женщинам, а сам не верит в себя. Никогда он ничего не добьется. И такой вот осмелился без единого слова отойти от его картины! Но Гойя сдержался. Будто и не заметил, что Агустин разглядывал портрет. И продолжал работать.