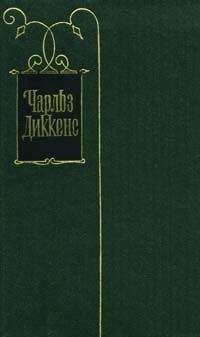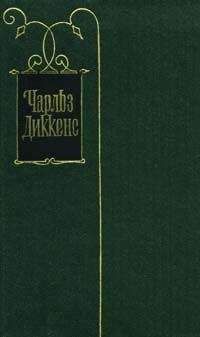Чарльз Диккенс - Рассказы и очерки (1850-1859)
РАССКАЗ БЕДНОГО РОДСТВЕННИКА
Перевод М. Лорие
Ему очень не хотелось говорить первым, прежде стольких почтенных членов их семейства, когда они, усевшись в кружок у огня в рождественский вечер, решили каждый рассказать какую-нибудь историю; и он скромно заметил, что было бы правильнее, если бы начать согласился "Джон, наш уважаемый хозяин" (за чье здоровье он предлагает выпить). Ему же самому, сказал он, так непривычно быть впереди других, что, право же... Но когда все хором вскричали, что начинать нужно именно ему, и заявили в один голос, что он может, должен и даже обязан начать, он перестал потирать руки, высвободил ноги из-под кресла и начал.
Я не сомневаюсь (сказал бедный родственник), что мой рассказ удивит собравшихся здесь членов нашего семейства и в особенности Джона, нашего уважаемого хозяина, которому все мы так много обязаны за гостеприимство, оказанное нам сегодня. Но если вы удостоите своим удивлением слова человека, так мало значащего в семье, я могу сказать лишь одно: во всем, что вы от меня услышите, я буду строжайшим образом придерживаться правды.
Я - не то, чем меня считают. Я нечто совсем иное. И для начала нужно, пожалуй, сказать несколько слов о том, чем же меня считают.
Считается, если я не ошибаюсь, - а если ошибаюсь, что очень возможно, собравшиеся здесь члены нашего семейства поправят меня (тут бедный родственник смиренно обвел всех глазами, готовый принять любое возражение); считается, что я никому не враг, кроме как самому себе. Что я ни в чем не добился особенных успехов. Что меня постигла неудача в делах, потому что я был не деловит и легковерен и не догадался о корыстных замыслах моего компаньона. Что меня постигла неудача в любви, потому что я был до смешного доверчив и не допускал мысли, что Кристиана может обмануть меня. Что меня постигла неудача с наследством дядюшки Чилла, оттого что я оказался, на его взгляд, недостаточно расчетлив в житейских делах. Что всю жизнь меня, можно сказать, водили за нос и оставляли в дураках. Что я холост, дотягиваю шестой десяток и живу на скромный пенсион, который получаю раз в три месяца и дальнейшее упоминание о котором, как я вижу, было бы неприятно Джону, нашему уважаемому хозяину.
Мои занятия и привычки люди представляют себе примерно так:
Я снимаю комнату на Клепем-роуд - очень чистенькую комнату окном во двор в очень почтенном доме, - где не бываю в дневное время, разве что прихворну, и откуда ухожу в девять часов утра, словно бы на службу. Мой утренний завтрак - булочка с маслом и полпинты кофе - ждет меня в старой кофейне у Вестминстерского моста; затем я иду в Сити - сам не знаю зачем - и сижу в кофейне Гэрроуэя или на бирже, а не то брожу по улицам и заглядываю в присутствия и конторы, откуда некоторые мои родственники и знакомые по доброте своей не гонят меня и где я могу постоять у камина, если на улице холодно. Так я провожу время до пяти часов, после чего обедаю: это обходится мне в среднем один шиллинг и три пенса в день. Немножко денег у меня еще остается на вечер, и по дороге домой я захожу в мою старую кофейню, где выпиваю чашку чаю, иногда с гренками. И так, когда малая стрелка часов, описав круг, возвращается к девяти, я, описав свой круг, возвращаюсь на Клепем-роуд и, добравшись до своей комнаты, сразу ложусь спать, потому что уголь стоит дорого, и к тому же мои хозяева не любят, когда в комнате шумят и разводят грязь.
Иногда кто-нибудь из моих родных или знакомых оказывает мне любезность - приглашает к себе отобедать. Это для меня праздник, и в такие дни я обычно гуляю в Гайд-парке. Я не общителен и по большей части гуляю один. Не то чтобы меня избегали из-за того, что я плохо одет; я одет вовсе не плохо, на мне всегда хороший черный костюм (вернее, очень темно-синий, этот цвет кажется черным, и притом гораздо дольше не выгорает); но говорю я теперь тихо, и люблю помолчать, и состояние духа у меня неважное, и вполне понятно, что люди не ищут моего общества.
Единственное исключение из этого правила - маленький Фрэнк, мой двоюродный племянник. Я необыкновенно привязан к этому мальчику, и он меня любит. По природе своей это робкий ребенок; в толпе его недолго и затереть, если можно так выразиться, и позабыть о нем. А мы с ним прямо-таки отлично ладим. Сдается мне, что со временем этот бедный мальчик займет в семье такое же положение, какое нынче занимаю я. Разговариваем мы мало, а между тем понимаем друг друга. Мы с ним гуляем, взявшись за руки; и он без лишних слов знает, что у меня на уме, а я знаю, что у него на уме. Когда он был еще совсем маленький, я, бывало, останавливался с ним у витрин игрушечных лавок и показывал ему игрушки. Просто удивительно, как быстро он понял, что я много чего подарил бы ему, если бы это было мне по средствам.
Мы с маленьким Фрэнком ходим иногда любоваться Монументом[113] - он очень любит Монумент - или поглядеть на мосты и на другие достопримечательности, за обозрение которых не нужно платить денег. Два раза, в день моего рожденья, мы ели на обед бифштекс и ходили за полцены в театр, где с большим интересом смотрели представление. Однажды я шел с ним по Ломберд-стрит[114], куда мы стали часто захаживать после того, как я рассказал ему, что там сосредоточены большие богатства, - он очень любит Ломберд-стрит, - и какой-то господин, обогнавши нас, сказал мне: "Сэр, ваш сынок обронил рукавичку". Уверяю вас, если будет мне позволено остановиться на столь пустячном обстоятельстве, - эти случайно брошенные слова, будто ребенок мой, тронули меня до глубины сердца, и я, глупый человек, даже прослезился.
Когда маленького Фрэнка отдадут в школу, далеко от Лондона, я просто не представляю себе, как я буду без него жить, но я собираюсь раз в месяц ходить к нему в гости в такие дни, когда уроки кончаются рано. Мне говорили, что в это время мальчики играют на лугу; а если мои посещения вызовут недовольство, если найдут, что они выбивают ребенка из колеи, я могу посмотреть на него издали, так, чтобы он меня не видел, а потом уйти обратно в город. Мать у него из благородных и, чувствую я, не одобряет нашей дружбы. Разумеется, такой человек, как я, не может отучить его от застенчивости; но думаю, что, если мы совсем перестанем видеться, он будет скучать по мне, и долго скучать.
Когда я умру у себя на Клепем-роуд, я оставлю в этом мире немногим больше того, что унесу с собой; но есть у меня одна миниатюра - портрет мальчика с открытым лицом и курчавой головкой, в рубашке с плоеным воротничком (портрет заказала моя мать, но мне не верится, чтобы он хоть когда-нибудь был похож на меня); за эту миниатюру много не выручишь, и я попрошу, чтобы ее отдали Фрэнку. Я приложил к ней письмецо для моего мальчика, в котором написал, что мне очень грустно было покидать его, хотя, признаться по совести, я не видел причин оставаться здесь. Я дал ему единственный совет, какой мог придумать, - насчет того, что плохо получается, если человек никому не враг, кроме как самому себе; и постарался его утешить, - а то он, чего доброго, затоскует обо мне, - указав, что для всех, кроме него, я был здесь лишним и ненужным; и что раз мне не удалось найти себе место в этом блестящем обществе, для меня же лучше будет, если я из него удалюсь.
Вот так (сказал бедный родственник, откашлявшись и немного повысив голос) думают обо мне люди. Но самое замечательное, к чему я и веду мой рассказ, заключается в том, что это совсем, совсем неверно. Не такова моя жизнь, и не таковы мои привычки. Я даже не живу на Клепем-роуд. Я бываю там сравнительно очень редко. Большею частью я обитаю... мне даже совестно произнести это слово, до того заносчиво оно звучит, - в замке - Я не хочу сказать, что это - старинное родовое гнездо каких-нибудь баронов, но все же такое здание всегда называют замком. В нем я храню всю повесть моей жизни; сложилась она так:
Когда я, будучи молодым человеком, не старше двадцати пяти лет, еще проживал у моего дядюшки Чилла, чьим наследником имел основания себя считать, и вскоре после того, как я взял в компаньоны Джона Спэттера (который раньше служил у меня клерком), я отважился сделать Кристиане предложение. Я давно любил Кристиану. Она была очень хороша собой, и во всех отношениях прекрасная девушка. Я не чувствовал расположения к ее матери, вдове, так как побаивался ее коварства и корыстолюбия; но ради Кристианы всячески старался не думать о ней плохо. Я никогда никого не любил, кроме Кристианы, и с самого нашего детства в ней был для меня весь мир, нет, много больше, чем весь мир!
Кристиана с согласия матери приняла мое предложение, чем несказанно осчастливила меня. Житье мое у дядюшки Чилла было убогое и скучное, а моя каморка на чердаке - унылая, пустая и холодная, как темница в башне какой-нибудь суровой северной крепости. Но Кристиана любила меня, а больше мне ничего не было нужно. Я бы не поменялся судьбой ни с кем на свете.