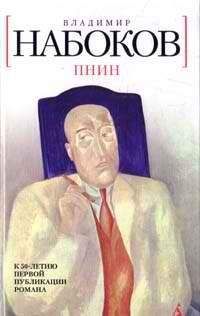Владимир Набоков - Пнин
Но бывают тематические нити не местного, а дальнего следования, они тянутся по всей длине книги, всплывая на поверхность в разных видах в каждой главе. Образуемая такими связями сеть длинных и коротких линий сплетена весьма замысловато, и этот переплет тем, в плане, видимом с известного возвышения, указывает своею правильностью и функциональным рассчетом на ставшую очевидной неслучайность конфигураций. Всякая композиция указывает на композитора. Здесь речь идет не о праздной, хотя бы и остроумной, игре, но о философском эксперименте в словесном художестве, который в принципе выводит и ставящего опыт сочинителя, и подопытного читателя далеко за пределы художественного сочинения — в мир настоящий, с заглядыванием в предстоящий.
Вот хороший пример такой темы дальнего, от главы к главе, следования — темы оптического отражения. В первой главе «блик стакана, медные шары изголовья кровати [больного мальчика]… перебивали узор листьев и ярких цветов [на обоях] в меньшей степени, чем отражение в оконном стекле предмета, находящегося внутри комнаты, мешало видеть пейзажи за окном». Все это Пнин созерцает теперь, через толщу сорока с лишним лет, в состоянии гипнотического воспоминания (вызванного странным, изредка повторяющимся, сердечным, по-видимому, припадком, природу которого врачи не могут разгадать), и поэтому нужно учитывать забавный мотив аберрации, вызванной расстоянием, ибо всегда существует малое, но неодолимое несоответствие между воспринимаемым и отраженным (например, в воспоминании). Это неполное соответствие, или несовпадение, находится в основании одного из важнейших истолкований всего романа; ведь общее искажение жизни Пнина, как она излагается повествователем N., некоторым образом напоминает эти оптические рефракции. С другой стороны, Коккерель — сам вымышленный выдумщик — составляет жизнь Пнина из одних только комических анекдотов, мелькающих один за другим быстрой чередой и представляющих подлинного Пнина в гораздо меньшей степени правдоподобия, чем petite histoire русской культуры, писанием которой занят Пнин, «отражает в миниатюре великую взаимосвязь событий».
Во второй главе видим, как неспешно падает снег, «поблескивая, отражаясь в безмолвном зеркале». В третьей, когда Пнин поднимает от книги усталые глаза и задерживает взгляд на высоком окне, «сквозь его таявшие раздумья проступал лилово-синий воздух сумерок, посеребренный отражением флуоресцентных ламп на потолке, а посреди паучьих черных веток [за окном] отражался ряд ярких книжных корешков». В четвертой, контрапунктной главе, тема отражений делается выпуклой. На первый взгляд, здесь речь о живописной технике, но повторное чтение доказывает функциональную важность этой темы не только в этой центральной главе, но и во всей книге, ибо тема эта дает понятие, или, вернее, образ нарастания сюжета. В симметрической середине романа описывается, как Виктор ставит опыты с отражениями различных предметов, изменяющих форму, а то и суть свою, когда их рассматриваешь сквозь толщу воды:
…красное яблоко превращалось в ровную красную полосу, ограниченную прямым горизонтом, — полстакана Красного моря, Arabia felix. Если держать короткий карандаш наклонно, то он изгибался стилизованной змеей, но если поставить его прямо, то он делался чудовищным толстяком, чуть ли не пирамидою. Если двигать туда-сюда черную пешку, то она распадалась на два черных муравья. А если держать гребенку стоймя, то стакан, казалось, наполнялся прелестной полосатой жидкостью, каким-то коктэйлем «зебра»[53].
Подробное описание усадьбы в пятой главе задерживается на «строгого вида этажерке, с потемневшими зеркальцами на задней стене, печальными, как глаза у старых обезьян». Здесь, кстати, вспоминается пассаж из предыдущей главы о «микроскопической комнатке… в тех совершенно особенных, совершенно волшебных выпуклых зеркальцах, которые пятью веками раньше любили вставлять в свои подробнейшие интерьеры и Ван Эйк, и Петрус Христус, и Мемлинг».
В шестой же главе встречаем описание интерьера, где «…пара хрустальных подсвечников с подвесками… была причиной радужных отражений ранним утром, прелестно загоравшихся на буфете и напоминавших моему сантиментальному другу об оконных витражах, окрашивавших солнечный свет в оранжевые, зеленые и фиолетовые цвета на верандах русских усадебных домов».
Наконец, в седьмой эта тема (как и многие другие) подвергается пересмотру, да и вся заключительная глава может быть рассмотрена как составная метафора этого ряда образов, как бы огромное зеркало, в котором жизнь Пнина отражается с неуловимой степенью искажения. «Здесь мы наблюдаем сдвиг фокуса, — пишет Набоков в своей лекции о романе Пруста, — и это смещение производит радужную грань: это особенный Прустовский кристалл, сквозь который мы читаем его книгу… Пруст призматичен. Его назначение — вернее, назначение этой его призмы — преломлять и, преломляя, воспроизводить мир ретроспективно»{17}.
Другой эмблематической фигурой, неукоснительно появляющейся в каждой главе книги, оказывается белка. Ее явления в «Пнине» образуют рисунок более законченный, чем букетик фиалок в «Истинной жизни Севастьяна Найта», или чем продолговатая лужа в «Незаконнорожденных», или чем темные очки в «Лолите». Один читатель склонен видеть здесь метампсихическое воплощение умершей невесты Пнина, дух которой, посредством белки, вмешивается в его жизнь в критические ее моменты{18}. Другие полагают, что характер появления этого грызуна наводит на мысль о «возможном метафизическом разрешении вопроса о человеческих страданиях», что, без сомнения, является главным вопросом всей книги. Например, в первой же главе мы видим, как белка, выжженная на ширме у кровати Пнина в его воспоминаемом детстве, чудесным образом превращается в живое существо, скачущее вприсядку возле него, когда он приходит в себя, в свое настоящее, после приступа «страдания и страха», — и как знать, может быть, это превращение означает, что страдание Пнина не есть следствие «чьего-то своевольного и злого умысла, но средство к извлечению сокровища частного прошлого героя и нашего настоящего сострадания»{19}.
Но имеется как будто и иное соответствие между посещением белкой очередной главы и очередным несчастием Пнина, только что приключившимся или имеющим скоро произойти. Во второй главе это особенно ясно видно, когда Пнин встречает на пути белку в то самое мгновение — мгновенно исчезающее, — когда он вдруг почувствовал, что еще чуть-чуть, и он разрешит наконец основную загадку бытия, подоплеку всей вселенной (его бытия, его вселенной, разумеется), найдет ключ, отпирающий смысл его существования — состоящий, быть может, в том, что он сам есть создание превосходного сочинителя правдоподобных мирозданий, чему настойчивое появление белки служит доказательством и красноречивой приметой.
Оба этих тематических провода, белка и призма, пересекаются в шестой главе, где Пнин с жаром доказывает, что pantoufles Золушки не хрустальные (стеклянные, verre по-французски), как обычно, и ошибочно, полагают, следуя испорченному тексту сказки, но меховые, т. е. отороченные беличьим мехом (vair). Отметим еще, что Чарльз Николь видит неслучайное, по его мнению, соположение почтовой карточки с изображением Серой Белки, которую Пнин послал Виктору, со стеклянного вазою «золушкиного [пепельного] оттенка», посланной Виктором в подарок Пнину несколько месяцев спустя{20}.
Тематические повторения у Набокова изучены лучше многих других отделов его искусства. В конце «Пнина» есть место, где действующее лицо книги чуть ли не за руку берет читателя, чтобы подвести его к машинному отделению и показать устройство двигателя: во время вечеринки у Пнина в его новонанятом доме Джоана Клементс разговаривает с профессором английской литературы о некоем писателе — совершенно очевидно, о том самом, кто и описывает все происходящее, включая и этот диалог:
Но не кажется ли вам — хэ — что едва-ли не во всех своих романах — хэ — он пытается — хэ — изобразить причудливое повторение некоторых положений?
Это наблюдение колоссальной важности для читателя, который приглашается обратить самое пристальное внимание на возобновление «некоторых положений» в том самом романе, который он держит теперь раскрытым перед собой, — именно, приглашается с этой целью перелистать безотлагательно его уже прочитанные страницы. И со всем тем, вышеприведенный отрывок включен в текст просто как выбранный наудачу образчик странной манеры Джоаны, когда она бывала немного навеселе, расставлять в своей речи на известных интервалах эти придыхательные «хэ». Любопытно и то, что Набоков описывает характерный маньеризм, приводя якобы случайный его пример из самых свежих, а не старых, как это обыкновенно делается («Ну, бгат, ты что-то завгался, сказал Денисов, — который жестоко картавил»). Этот прием позволяет ему незаметно подвигать повествование точными, но сильными толчками, неощутимыми и оттого не вдруг осознанными читателем. Когда в третьей главе Набоков долго распространяется о мучительных отношениях Пнина с английской фонетикой, артикуляцией и лексикой, он обращается за примером Пнинского тройного, на итальянский манер, отрицания («но-но-но») не к какому-нибудь случаю из прошлого, но к диалогу, происходящему «теперь», на поверхности времени, а не на глубине его, прямо на глазах читателя и, однако, укромно: Пнин, пешком идущий в университет, отклоняет таким образом предложение проезжающего коллеги подвезти его. Так imparfait привычного действия, своеобразное употребление которого Набоков отмечает в «Мадам Бовари», мастерски сливается в его собственном романе с длительным прошедшим повествовательного времени, в котором действие описывается и классифицируется в момент (описываемого) совершения.