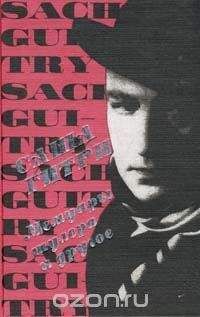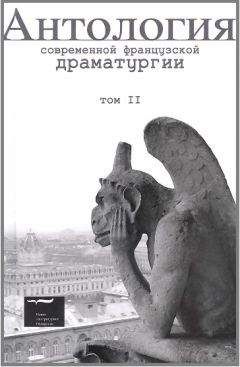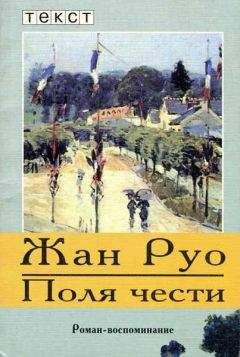Саша Гитри - «Мемуары шулера» и другое
Ведь опасаться иронии — это всё равно, что страшиться здравого смысла.
• Помню, однажды вечером мадам Саре Бернар случилось принимать у себя в артистической уборной некую даму, с которой она была едва знакома.
Эта дама хотела во что бы то ни стало привлечь к себе внимание Сары Бернар, та тем временем гримировалась. Она поведала ей историю смерти своего мужа, потом матери, наконец, дочки.
— Ах, какой ужас! — продолжая накладывать грим, пробормотала Сара Бернар.
Видимо, сочтя, что чаша бедствий недостаточно полна, чтобы растрогать прославленную актрисы, дама добавила:
— А ещё я недавно похоронила племянников и сестричку, и папочку тоже!
Препроводив таким образом в лучший мир всё своё семейство, дама изрекает:
— Вот я и хочу посоветоваться, может, и мне тоже пора наложить на себя руки, а?
И Сара Бернар, которая уже давно не слушает случайную собеседницу, рассеянно отвечает.
— Хм-м... а вот это неплохая мысль...
• По правде говоря, всякий, кто не чувствует скептицизма собеседника, никогда не производил на меня впечатления по-настоящему умного человека.
И я смею это утверждать, потому что жизнь близко свела меня с людьми по-настоящему великими, но ни один из них никогда не выглядел глубокомысленным. Они принимали вещи всерьёз, когда те того заслуживали, однако никогда не относились серьёзно к самим себе... потому что обладали либо чувством смешного, либо чувством юмора.
Мне выпало счастье дружить с Анатолем Франсом, Октавом Мирбо, Клемансо, Клодом Моне, Жюлем Ренаром, Куртелином — и с собственным отцом.
Так вот, все эти люди прожили жизнь, создавая шедевры, произнося удивительные слова — и при этом никогда не казались смешными! Я имею в виду, их ни разу, ни при каких обстоятельствах, не подвёл интеллект.
Ибо следует заметить — невероятно, но факт! — что человек вполне достойный, даже незаурядных достоинств, может быть напрочь лишён интеллекта. Не стану называть его имени, ведь он ещё жив, а я слишком хорошо воспитан, но есть у нас во Франции гениальный ученый, который в частной жизни не говорит ничего, кроме банальностей!
Совсем по-другому обстоит дело с чувством юмора... И если человеку глубокого ума случается не обладать чувством юмора, то уж можете не сомневаться, что человек остроумный наверняка умён — ибо наделён даром видеть смешное... в себе самом.
• Согласитесь, всякий человек сполна наделён от природы обаянием внешним, душевным, умственным и физическим, чтобы внушать любовь, чтобы быть добродушным, чтобы понимать других и смеяться самому, разве не так?
Уверен, так оно и есть.
И всё же…
На улицах, куда ни глянь, сплошь унылые лица, тревожные взгляды!
А ведь, в сущности, мы охотно простили бы им изъяны внешности, прочие недостатки и даже глупость, согласись они просто жить своей жизнью.
Но нет, каждому непременно нужно быть «кем-то», вместо того, чтобы быть всего лишь «самим собой».
Они серьёзны!
Они спешат ронять слезы над чем попало из страха, как бы не пришлось над этим посмеяться.
А ведь легкомыслие — первый шаг к мудрости.
• Несколько слов в защиту чудачества.
Надо встряхнуть людей, а для начала надо бы реабилитировать чудаков, ведь они буквально исчезают из-за опалы, которой подвергло их общество, а это приводит меня в отчаянье. Существует два типа чудачества.
Первый — это чудачество природное, оно постоянно проявляется в манере себя вести, одеваться, короче, в образе жизни. Подобное чудачество обычно проистекает либо из чрезмерного пристрастия к напиткам, либо из особого устройства мозгов благодаря какому-нибудь неуравновешенному предку.
И этот вид чудачества — вовсе не безумие. Чудак — это вам не придурок.
Второй тип чудачества ставит на службу искусству, коему посвятил свою жизнь, человек, наделённый от природы остроумием и весёлостью.
Этот тип чудачества есть, на мой взгляд, обострённое состояние творческой фантазии — постоянное, присущее человеку от природы и позволительное каждому.
• Для успешного чудачества необходимо, чтобы до отдельных людей, в особенности до женщин, не доходило, что смешного такого, уж и вправду забавного в этих чудаковатых выдумках.
Дело в том, что смех, вызываемый шутками чудака, усиливается и достигает своей цели лишь при наличии полностью серьёзного и неулыбчивого соседа.
Вы смеётесь и шутке, и тому, что её смысл ускользнул от бедняги.
Когда, в какой момент, начинается агония чудачества?
Она начинается в тот день, когда в душе артиста рождается вкус к почестям и забота о том, что думает о нём публика.
Влияние почестей столь же бесспорно, сколь и прискорбно.
Как только артист начинает грезить о вожделенном моменте присуждения ему какой-нибудь почётной награды, он уже перестаёт забавляться сам и почти не развлекает других, а кончает тем, что утрачивает весёлость и делается серьёзным и мрачным.
Похоже, он просто не понимает тех опасностей, которые таит в себе его собственное преуспеяние.
Орденская ленточка! Почётный крест!
Академия!
Чушь, ведь стоит вам этого добиться — и вы конченый человек, на вас действительно можно поставить крест!
Да, конченый, ибо пусть даже вы сохранили способность создать что-нибудь стоящее, всё это уже никогда не обретёт для вас такой ценности, такого очарования, как то, за что вас наградили, за что вас куда-то выбрали!
А вам ведь ещё по-прежнему хочется высказывать какие-то мысли, бороться с расхожими мнениями и ниспровергать законы...
Да только быть смелым, значит чем-то рисковать... а вам-то уже больше нечем!.. Всё в прошлом!
Мемуары шулера
Одному из моих наилучших друзей — наугад.
Глава первая
Тортизамбер
Я появился на свет 28 апреля 1882 года в Тортизамбере, небольшой, довольно живописной деревушке департамента Кальвадос, её колокольня видна слева, если ехать из Ливаро в сторону Троарна.
Родители мои держали бакалейную лавку, которая приносила им, год больше, год меньше, в среднем тысяч пять франков дохода.
Семейство у нас было большое. От первой супружеской постели у матушки двое деток осталось. А с нашим батюшкой она ещё сыночка и четырёх дочек прижила. У папаши была матушка, у мамочки, как положено, тоже родитель имелся — короче, вы уж извините за выражение, тут они были квиты. В добавок к тому у нас в доме ещё глухонемой дядюшка проживал.
Короче, за стол мы садились целой дюжиной.
В тот злосчастный день на обед у нас были грибы, вот из-за них-то мне и суждено было коротать дни круглым сиротою.
Я навсегда остался сиротой, один на всём свете, благодаря тому, что стащил из кассы восемь сантимов, чтобы купить себе шарики для игры, и отец в порыве благородного негодования воскликнул:
— Ах, так ты воруешь, значит, останешься нынче без грибов!
Эти роковые дары природы собрал наш глухонемой дядюшка — и в тот вечер в доме появилось одиннадцать покойников.
Те, кому не доводилось разом видеть одиннадцать усопших родственников, вряд ли смогут себе представить, как это много, когда их без одного дюжина.
Просто куда ни глянь, непременно на покойника наткнёшься.
Поведать вам, как безутешна была моя скорбь?..
Да нет, пожалуй, лучше уж правду скажу. В ту пору мне было всего двенадцать, и согласитесь, горя оказалось несколько многовато для столь юного возраста. Да-да, я тогда ещё не дорос до скорби таких исполинских масштабов — и не имея жизненного опыта, чтобы полностью оценить весь кошмар происшедшего, по правде сказать, чувствовал одно только возмущение, и ничего больше.
Герой этой книги
Можно оплакивать мать... или отца... или, на худой конец, брата... Но как, научите, оплакивать одиннадцать родственников разом?! Просто не знаешь, над кем слезу пролить. Конечно, было бы неуместно говорить тут о трудностях выбора — и всё же именно это было бы ближе всего к истине. Моя скорбь всё время переключалась с одного усопшего на другого, и мне было недосуг как следует оплакать каждого сородича по отдельности.
Доктор Лавиньяк, призванный после полудня, многие часы не жалея сил и со знанием дела пытался спасти пострадавших, но — увы! — старания его оказались тщетны. Семейство моё неумолимо угасало.
Господин кюре, который обедал в тот день у маркиза де Бовуар, прибыл на велосипеде к четырём пополудни. И не зря, очень скоро его услуги оказались более чем кстати!
К пяти вечера к нам уже сбежалась вся деревушка. Папаша Руссо, вот уже двадцать лет парализованный, велел принести себя к нам и, слепой как крот, расталкивал других, повторяя: