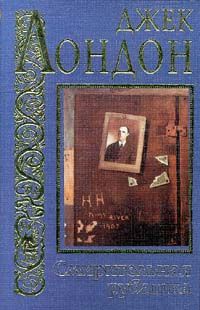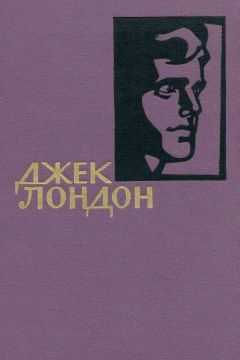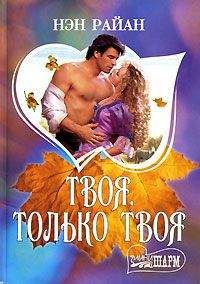Джек Лондон - Смирительная рубашка. Когда боги смеются
Оппенхеймер получил за это сто часов в смирительной рубашке, и, когда его развязали, он плюнул в лицо Азертону, за что получил еще сто часов. Когда он был расшнурован в этот раз, Азертон постарался не присутствовать в его камере. Что он был потрясен словами Оппенхеймера, в этом нет сомнения.
Но кто был настоящим сатаной, так это доктор Джексон. Для него я был интересным медицинским случаем. И он всегда порывался узнать, как много я смогу перенести, не сломившись.
— Он запросто может выдержать двадцать дней за один присест, — хвастался он начальнику тюрьмы в моем присутствии.
— Вы меня недооцениваете, — перебил я. — Я могу выдержать сорок дней. Да что там, я могу выдержать сто, только если вы лично наденете на меня рубаху. — А вспомнив, как терпеливо я ждал, будучи морским бродягой, целых сорок лет, пока мои руки не вцепились в горло Чон Мон Дю, я прибавил: — Вы — тюремные дворняжки, вы не знаете, что такое человек. Вы думаете, что человек создан по вашему трусливому подобию. Запомните, я человек. Вы — бессильные, я ваш господин. Вы не можете вырвать у меня ни одного стона. Вы считаете это замечательным только потому, что знаете, как легко закричали бы вы сами.
О, я оскорблял их, называя жабьим отродьем, прихлебателями сатаны, колодезной тиной, потому что был над ними и вне их. Они были рабы, я же — свободный дух. Только мое тело лежало запертым в одиночной камере. Я же не был заключен. Я победил тело, и простор времени лежал передо мной, и я мог странствовать в нем, пока бедное тело, которое даже не страдало, было стянуто смирительной рубашкой, погруженное во временную смерть.
Я рассказал о многих своих приключениях обоим товарищам. Моррелл верил, потому что он сам вкусил временную смерть. Но Оппенхеймер, восхищаясь моими рассказами, оставался до конца скептиком. Наивно, а иногда действительно с чувством, он высказывал свое сожаление о том, что я посвятил свою жизнь агрономии вместо писания фантастических романов.
— Но, дружище, — спорил я с ним, — что могу я знать о Чосоне? Я только в состоянии отождествить ее с тем, что в наши дни называется Кореей, и это все. Например, откуда бы я мог узнать что-нибудь о кимчи? А между тем я знаю, что это такое. Это род квашеной капусты. Когда она портится, запах от нее слышен даже на небе. Когда я был Адамом Стрэнгом, я ел кимчи тысячу раз. Я ел хорошую кимчи, скверную кимчи и гнилую кимчи. Я знал, что лучшую кимчи делают женщины из Возана. Ну, откуда же я знаю это? Это не вмещается в мой разум, разум Даррела Стэндинга. Но это входит в пределы понимания Адама Стрэнга, который через череду рождений и смертей завещал мне, Даррелу Стэндингу, этот опыт вместе с остальным моим опытом о множестве других жизней. Видишь ли, Джек, так же, как человек рождается и растет, так же развивается и дух.
— Ай, брось, — быстро и коротко стучал он мне в ответ своими сильными кулаками, удары которых я так хорошо знал. — Слушай, что скажет тебе дядюшка. Я — Джек Оппенхеймер и был всегда Джеком Оппенхеймером. Никого другого нет в моем существе. Все то, что я знаю, я знаю как Джек Оппенхеймер. Ну, и что именно? Вот, например, что такое кимчи. Кимчи — это род квашеной капусты, ее делают в стране, которую называют Чосон. Возанские женщины готовят наилучший кимчи, а когда кимчи портится, запах его слышен на небе. Запомни это, Эд. Подожди, сейчас я припру профессора к стене. Теперь, профессор, откуда я получил все эти сведения о кимчи? Это не входило в содержание моего разума.
— Вот именно, — ликовал я. — Ты получил их от меня.
— Ладно, старина, тогда кто же вложил это в твой разум?
— Адам Стрэнг.
— Но Адам Стрэнг — это пустое сновидение. Ты прочел об этом где-нибудь.
— Никогда, — утверждал я. — То немногое, что я читал о Корее, это военные сводки во время Русско-японской войны.
— Разве ты помнишь все, что читал? — допрашивал меня Оппенхеймер.
— Нет.
— Кое-что ты наверняка забыл?
— Да, но…
— Довольно, спасибо, — перебил он, как делает адвокат, внезапно прерывающий перекрестный допрос, после того как ему удалось добиться какого-нибудь рокового признания.
Было немыслимо убедить Джека Оппенхеймера в моей искренности. Он настаивал, что я выдумывал то, что он назвал «романом с продолжением». Когда меня освобождали из рубахи, начинались бесконечные расспросы и просьбы рассказать еще несколько глав.
— Теперь, профессор, оставь эту высокую материю, — перебивал он мой метафизический спор с Эдом Моррелом, — и расскажи нам больше о кисан и о морских сражениях. Расскажи еще, раз уж к слову пришлось, что случилось с госпожой Ом, когда ее муж задушил этого старого негодяя и сам был убит.
Я уже не раз говорил, что форма погибает. Позвольте мне повторить. Форма погибает. У материи нет памяти. Только дух помнит, как в данном случае — в тюремных камерах, спустя столетия; воспоминание о госпоже Ом и о Чон Мон Дю настойчиво держалось в моем разуме, а через него передавалось Джеку Оппенхеймеру, а затем снова в мой разум, на наречии и жаргоне Запада. А теперь я передал это твоему разуму, читатель. Постарайся вычеркнуть это из него. Ты не сможешь. То, что я рассказал тебе, на всю жизнь останется в твоей памяти. Дух? Нет ничего постоянного, кроме духа. Материя изменяется, кристаллизуется и меняется снова, а форма никогда не повторяется. Форма распадается на вечные ничто, к которым уже нет возврата. Форма появляется и исчезает, как исчезла физическая форма госпожи Ом и Чон Мон Дю. Но память о них остается и останется навсегда, пока продолжает существовать дух; а дух неразрушим.
— Одно ясно, как божий день, — сделал критическое заключение Джек Оппенхеймер о моих приключениях в теле Адама Стрэнга. — Ты посещал разные увеселительные заведения в китайском квартале чаще, чем это полагается уважаемому профессору университета. Скверное общество, знаешь ли, — оно, похоже, и привело тебя сюда.
Прежде чем я вернусь к своим приключениям, я должен рассказать один замечательный инцидент, случившийся в одиночке: он замечателен, так как показывает удивительные умственные способности этого продукта сточных каналов — Джека Оппенхеймера — с одной стороны, а с другой — является сам по себе убедительным доказательством истинности моих опытов во время спячки в смирительной рубашке.
— Скажи, профессор, — простучал мне однажды Оппенхеймер, — когда ты рассказывал сказки об Адаме Стрэнге, я помню, ты упоминал об игре в шахматы с этим проспиртованным братом императора. Ну-с, похожа ли эта игра в шахматы на нашу?
Конечно, я должен был ответить, что не знаю, что не помню деталей, вернувшись в нормальное состояние. И конечно, он добродушно смеялся над тем, что он называл моими дурачествами. Все-таки я мог отчетливо припомнить, что в бытность мою Адамом Стрэнгом я часто играл в шахматы. Смущался же я потому, что по возвращении в сознание в тюрьме несущественные и запутанные подробности блекли в моей памяти.
Надо помнить, что для удобства слушателей я составлял из своих отрывочных и повторяющихся опытов в смирительной рубашке связные и последовательные рассказы. Я никогда не знал наперед — куда занесет меня мое путешествие. Например, я двадцать раз возвращался к Джесси Фэнчеру в круг фургонов на Горных Лугах. За десять дней, которые я провел подряд в рубахе, я уходил дальше и дальше, от одной жизни к другой, и часто перескакивал через целые серии жизней, которые я переживал в другие времена, уходил назад в доисторическое время и снова оттуда к эпохе возникновения цивилизации.
Поэтому я решил в следующее мое возвращение к жизни Адама Стрэнга, если только оно случится, немедленно сконцентрировать сознание на тех эпизодах, которые касались шахмат. И как назло, мне пришлось целый месяц слушать издевательские речи Оппенхеймера, пока это случилось. И тогда, как только меня освободили и кровообращение возобновилось, я поднялся, чтобы простучать ему известие.
Потом я научил Оппенхеймера шахматам, в которые играл Адам Стрэнг в Чосоне несколько столетий тому назад. Они отличались от западной игры, хотя по существу были теми же самыми, имея общее происхождение — по всей вероятности, индийское. Вместо наших шестидесяти четырех клеток у них было восемьдесят одна. У наших шахмат по восемь пешек на стороне, у них по девять, и хотя они имели те же ограничения, что и наши, но принцип ходов был другой.
В чосонской игре используется двадцать фигур вместо наших шестнадцати, и они расставлены в три ряда, а не в два. Таким образом, девять пешек находятся в первом ряду, в среднем ряду находятся две фигуры, похожие на наши ладьи, а в последнем ряду посредине стоит король, прикрытый с каждой стороны «серебряной монетой», «золотой монетой», «валетом» и «копьеносцем». Надо отметить, что в чосонской игре нет королев. Дальнейшее радикальное различие состоит в том, что взятая фигура или пешка не снимается с шахматной доски, а становится собственностью противника, и с этого момента он ходит ею.