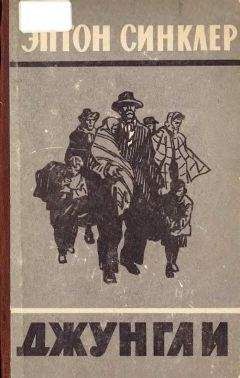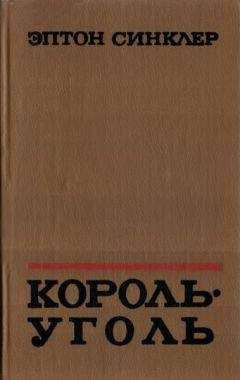Эптон Синклер - Джунгли
Решетчатая дверь захлопнулась за Юргисом. Он сел на скамью и закрыл лицо руками. Он был один и мог думать весь остаток дня и всю ночь.
Вначале, словно дикий зверь, напившийся крови, он ощущал только тупое удовлетворение. Этот мерзавец получил как следует! Правда, он заслуживал большего, и, будь у Юргиса еще хоть минута в запасе, он мог бы, конечно, отделать его еще лучше, но и так получилось неплохо: Юргис до сих пор чувствовал, как у него под пальцами хрустит глотка Коннора. Но понемногу силы возвращались к нему, в голове прояснялось, и минутное удовлетворение уже не затемняло мыслей; то, что он чуть не убил начальника грузчиков, нисколько не поможет Онне, — не поможет ей нести бремя пережитых ужасов, не поможет избавиться от страшных воспоминаний, которые будут теперь преследовать ее всю жизнь. Это не поможет ей прокормиться самой и прокормить ребенка. Она несомненно потеряет работу, а он, Юргис, — один бог знает, что будет с ним!
До глубокой ночи он мерил шагами камеру, борясь с неотступным кошмаром, а когда, наконец, обессиленный, лег и попытался уснуть, то впервые в жизни обнаружил, что его голова пухнет от мыслей. В соседней камере сидел избивший жену пьяница, внизу завывал сумасшедший. Когда пробило полночь, полицейский участок открылся для бездомных бродяг, которые дожидались на улице, дрожа от холода, а теперь заполнили весь коридор, куда выходили камеры. Одни растянулись на голом каменном полу и тут же захрапели, другие сидя болтали и смеялись, бранились и ссорились. Их дыхание наполнило воздух смрадом, но кое-кто из них все же почувствовал запах, исходивший от Юргиса, и потоки ругани обрушились на него, а он лежал в дальнем углу камеры и считал удары крови в висках.
На ужин ему принесли «дурман с дрянью», то есть ломти черствого хлеба на оловянной тарелке и кофе, которое называлось дурманом потому, что к нему примешивали наркотик для усыпления заключенных. Юргис этого не знал, иначе, терзаемый отчаянием, он проглотил бы это пойло; но он не выпил его, и сейчас каждый нерв дрожал в нем от ярости и стыда. К утру в тюрьме все стихло; он встал и снова начал ходить по камере. И тогда из глубины его сознания поднялся злобный дух с налитыми кровью глазами и принялся рвать на части его сердце.
Юргис страдал не за себя — что может испугать человека, которому пришлось работать на фабрике удобрений Дэрхема? Сравнится ли ужас тюрьмы с ужасом прошлого, с ужасом того, что случилось и чего уже не исправить, с ужасом неизгладимых воспоминаний? Они сводили его с ума; он протягивал руки к небу, моля об избавлении, — но избавления не было, даже у неба не было власти изменить прошлое. Этот призрак был неодолим, он преследовал Юргиса, бросался на него, сбивал с ног. Если бы только Юргис мог все предвидеть! Но он должен был предвидеть, не будь он таким слепым глупцом. Он бил себя кулаками по лбу, проклиная себя за то, что позволил Онне работать там, где она работала, за то, что не встал между ней и той участью, которая, как все знали, неизбежно постигает молодых работниц. Он должен был увести ее, пусть даже для того, чтобы потом им обоим свалиться и умереть от голода в канавах чикагских улиц! А теперь… Нет, этого не может быть, это слишком чудовищно и ужасно!
Об этом было страшно думать. Юргиса пронизывала дрожь всякий раз, как он пытался взглянуть правде в лицо. Нет, эта ноша им не под силу, они не смогут жить под таким бременем. Онна не вынесет; пусть он простит ее, пусть на коленях будет вымаливать у нее прощение, но она никогда больше не сможет посмотреть ему в глаза, никогда больше не сможет быть его женой. Стыд убьет ее, для нее нет иного избавления, иного выхода.
Это было просто и ясно, но стоило ему на секунду стряхнуть с себя этот кошмар, как с жестокой непоследовательностью он начинал страдать и терзаться, представляя себе, как Онна погибает от голода. Его посадили под замок и выпустят не скоро, быть может через несколько лет. А Онна, измученная и разбитая, будет не в состоянии работать, и Эльжбета и Мария тоже, конечно, лишатся места. Если этот дьявол Коннор захочет погубить их, они все окажутся на улице. А если и нет, все равно им не прожить, даже если мальчики снова бросят школу; нет, без него и Онны семье не оплатить всех счетов. У них осталось всего несколько долларов, они только неделю назад внесли деньги за дом, да и то просрочили с платежом на две недели. Значит, через неделю снова придется платить. У них на это не будет денег, и они потеряют дом, за который так долго и мучительно боролись. Агент уже трижды предупреждал их, что больше не потерпит просрочки. Возможно, со стороны Юргиса было низостью думать о доме, а не о том страшном, чему не было названия, но он столько выстрадал из-за этого дома, столько выстрадали они все! Лишь дом сулил им какое-то облегчение; они вложили в него все свои деньги, а ведь они были тружениками, бедняками, для которых в деньгах было все — их сила, возможность существовать, тело и душа. Когда были деньги, они могли жить, когда денег не было, они умирали.
Теперь они всего лишатся, их выгонят на улицу, они должны будут ютиться на каком-нибудь нетопленом чердаке, и случай будет распоряжаться их жизнью. Для этих мыслей у Юргиса была вся ночь — и еще много ночей впереди, — и он во всех подробностях представил себе будущее своих близких, словно сам переживал его, словно находился на свободе вместе с ними. Они продадут мебель, потом задолжают в лавках, и им перестанут отпускать в долг. Они займут немного денег у Шедвиласов, чья гастрономическая торговля находится накануне полного краха; немного помогут соседи. Бедная больная Ядвига принесет несколько сбереженных центов, как она делала всегда, когда люди доходили до предела нищеты, и Тамошус Кушлейка отдаст свой заработок за ночь игры на скрипке. Так они будут перебиваться, стараясь дождаться, пока он выйдет из тюрьмы. Но узнают ли они, что он в тюрьме, отыщут ли его? Позволят ли ему увидеться с ними, или, чтобы усугубить наказание, его будут держать в неведении об их судьбе?
Его фантазия рисовала самые страшные картины: он видел Онну больной и страдающей, Марию безработной, Станиславаса не сумевшим из-за снега добраться до боен, всю семью выброшенной на улицу. Боже милостивый! Неужели люди допустят, чтобы они действительно упали на улице и умерли? Неужели и тогда никто не придет к ним на помощь? Неужели они будут бродить по снегу, пока не замерзнут? Юргис никогда не видел мертвецов на улицах, но он видел, как людей выбрасывали из квартир, а потом они исчезали неизвестно куда. И хотя в городе было бюро помощи неимущим, а в районе боен — благотворительное общество, Юргису о них никогда не приходилось слышать. Они не рекламировали своей деятельности, так как и без того были не в силах помочь всем, кто к ним обращался.
Так продолжалось до утра. Утром Юргиса снова повезли в тюремной карете, на этот раз вместе с избившим жену пьяницей, сумасшедшим, несколькими обыкновенными пьяницами, дебоширами, взломщиком и двумя рабочими, которых арестовали за то, что они украли на бойнях мясо. Их всех ввели в просторный, выбеленный известкой зал, где набилось столько народу, что нечем было дышать. Напротив двери на небольшом огороженном возвышении сидел плотный краснолицый мужчина с багровыми прыщами на носу.
Юргис смутно догадывался, что сейчас его будут судить. Но за что? Убил он свою жертву или нет? А если убил, то что с ним сделают? Повесят или, быть может, забьют до смерти? Ничто не удивило бы Юргиса, который не имел ни малейшего представления о законах. Во всяком случае, он достаточно наслушался всякой болтовни на бойнях, чтобы теперь сообразить, что сидевший на возвышении человек с зычным голосом — небезызвестный судья Келахан, о котором в Мясном городке люди говорили только шепотом.
Пэт Келахан — Пэт Пивной Кувшин, как называли его до начала судейской карьеры, — был когда-то подручным у мясника и прославленным в Мясном городке боксером. Политикой он начал заниматься чуть ли не с пеленок и, еще не достигнув совершеннолетия, занимал две доходные должности. Если на невидимой руке, которой мясные короли прижимали к земле население округа, Скэлли был большим пальцем, то Келахан играл роль указательного. Никто из политических заправил Чикаго не пользовался таким доверием мясопромышленников. Он служил им много лет. В те далекие времена, когда весь город Чикаго продавался с торгов, Келахан уже был в муниципальном совете доверенным лицом старого Дэрхема, этого выбившегося в люди лавочника. Пэт Пивной Кувшин довольно рано отказался от всяких официальных должностей, дорожа лишь своей партийной властью, а свободное время посвящал надзору за принадлежавшими ему пивными и публичными домами. С годами, однако, когда у него подросли дети, он стал ценить положение в обществе и сделал себя судьей. Он был великолепно приспособлен к этой роли благодаря врожденному консерватизму и презрению к «иностранцам».