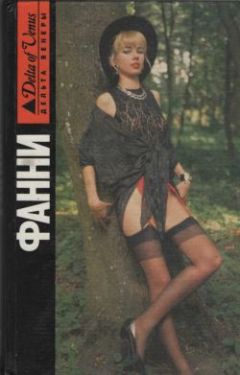Альфонс Доде - Сафо
– А, ты уже не спишь?
– Нет… Поди ко мне… Давай поговорим.
Слегка озадаченная торжественностью его тона, она присела на край кровати.
– Фанни!.. Уедем отсюда!
Сперва она решила, что это он говорит только для того, чтобы ее испытать. Но он стал входить в такие подробности, что она разуверилась. Есть вакантная должность в Арике. Он попросит, чтобы его туда назначили. Получит он назначение недели через две, а за это время она успеет уложиться.
– А как же твоя женитьба?
– Ни слова больше о моей женитьбе!.. Это уже непоправимо… Теперь мне ясно, что все кончено, что я не в силах уйти от тебя.
– Бедное дитя! – сказала она с печальной и чуть-чуть пренебрежительной нежностью и, несколько раз подряд затянувшись, спросила: – А это далеко?
– Что, Арика?.. Очень далеко, в Перу… – ответил Госсен и совсем тихо прибавил: – Фламану туда не добраться…
Окутавшись облаком дыма, она задумчиво и загадочно молчала. А он все держал ее руку в своей, гладил ей плечо, затем, убаюканный капелью, падавшей вокруг домика, прикрыл глаза и начал медленно погружаться в тину.
XV
Взвинченный, взбудораженный, одной ногой на корабле, мысленно уже в пути, подобно всем, кто собирается уезжать, Госсен два дня как в Марселе, куда должна приехать и Фанни, а затем они вдвоем сядут на корабль. Все готово, билеты заказаны: две каюты первого класса для французского вице-консула в Арике, едущего со своей родственницей. И вот он, истерзанный вдвойне мучительным для него ожиданием – ожиданием возлюбленной и ожиданием отплытия, меряет шагами облезлый пол своего номера в гостинице. Выйти на улицу он не решается, значит, надо ходить по комнате, двигаться на одном месте. Улицы пугают его, как преступника, как дезертира; на марсельских разномастных сутолочных улицах ему все кажется, что на любом перекрестке, того и гляди, покажется отец или старик Бушро, схватит его за плечо, поймает и уведет.
Он заперся у себя в номере, он даже не ходит к табльдоту, машинально пробегает глазами по страницам книги, бросается на кровать, заполняет досуг разглядываньем развешанных по стенам и засиженных мухами картин: «Лаперуз терпит кораблекрушение» и «Смерть капитана Кука» – или сидит часами, облокотившись на трухлявые перила балкона и прячась за желтой шторой с таким же количеством заплат, как на парусе рыболовного судна.
Отель «Юный Анахарсис», прельстивший его своим названием, на которое он случайно наткнулся в «Боттене», когда уславливался с Фанни о встрече, представляет собой не что иное, как старый трактир, и трактир этот не может похвастаться ни роскошью, ни особой чистотой, – его преимущество в том, что окна его смотрят на пристань, на корабли, на предотъездную толкотню. Под самыми его окнами выставлен на чистом воздухе товар продавца птиц – попугайчики и разные другие гости с островов, сидящие в поставленных одна на другую клетках, приветствуют занимающийся день ласкающим слух немолчным гомоном дремучего леса, а затем, с течением дня, их голоса заглушает и покрывает шум работ на пристани, сообразующийся со звоном колоколов Божьей Матери-заступницы.
Это смутный гул, в который сливаются брань на всех языках, крики лодочников, носильщиков, продавцов ракушек, буханье молотов в доке, скрежет лебедок, звонкий стук рыболовных судов, ударяющихся бортом о пристань, бой склянок, пыхтенье машин, мерный шум насосов, кабестанов, плеск выкачиваемой из трюмов воды, фырканье вырывающегося пара, это грохот, отражаемый и усиливаемый водной равниной, откуда по временам доносится хриплый вой, дыхание морского чудища – дыхание трансатлантика, выходящего в открытое море.
Запахи тоже вызывают в воображении дальние страны, набережные, залитые еще более ярким и жарким солнцем. Пахнет выгружаемым сандаловым и кампешевым деревом, лимонами, апельсинами, фисташками, бобами, арахисом – струя этого пряного аромата, поднимающегося вместе с вихрями экзотической пыли, вливается в воздух, насыщенный морской солью и доносящимся из камбузов запахом пригорелых душистых трав и кипящего на сковородке сала.
По вечерам звуки стихают, воздух разрежается, запахи улетучиваются. Осмелев в темноте, Жан приподнимает штору, между перекрещивающейся штриховкой мачт, рей, бушпритов видит темный уснувший порт, вслушивается в тишину, нарушаемую лишь ударом весла по воде или далеким лаем корабельной собаки, а там, в открытом, совсем-совсем открытом море – маяк Планье, вращая свой длинный, то красный, то белый огонь, режущий тьму, выхватывает из нее мигающим светом молнии очертания островов, фортов и скал. И его мерцающий взгляд, стерегущий тысячи жизней окрест, – это тоже напоминание об отъезде, призыв и сигнал, и зов этот слышится Госсену и в голосе ветра, и в реве волн, и в сиплых гудках парохода, а пароходы в Марселе денно и нощно хрипят и пыхтят на рейде.
Ждать еще целые сутки. Фанни раньше воскресенья не приедет. Остававшиеся до отъезда три дня он должен был провести у родных, посвятить их дорогим для него людям, с которыми он увидится только через несколько лет, а быть может, и совсем не увидится. Но вечером того дня, когда Жан приехал в Кастле, отец узнал, что свадьба расстроилась, догадался, чем это вызвано, и тут последовало бурное, горячее объяснение.
Так что же такое мы сами и наши нежнейшие сердечные привязанности, если порыв гнева, промчавшийся между двумя родными по плоти, по крови существами, вырывает, крутит и уносит их взаимную любовь, их родственные чувства, пустившие такие глубокие и такие тонкие корни, – уносит со слепой, непреодолимой яростью свирепствующих в китайских морях тайфунов, о которых не любят вспоминать даже морские волки, бледнеющие при одном их упоминании. «Не будем об этом говорить!..» – просят они.
И Госсен тоже никогда об этом не заговорит, но всю жизнь будет помнить страшную сцену на террасе, в Кастле, где протекло его счастливое детство, – сцену, разыгравшуюся среди великолепной умиротворяющей природы, на виду у сосен, миртов, кипарисов, стоявших плотным трепещущим строем вокруг отцовского проклятья. Вечно будет у Жана перед глазами высокий старик, судорожно двигающиеся желваки на его щеках, его ненавидящий рот, его ненавидящий взгляд, навсегда запомнится, как старик наступал на него и выкрикивал слова, которые невозможно простить, которыми он изгонял сына из дома за то, что сын попрал семейную честь: «Убирайся вон! Уезжай со своей тварью! Ты для нас умер!..» А как рыдали двойняшки, на коленях ползая по крыльцу и умоляя простить их взрослого брата, как побледнела Дивонна, так и не простившаяся с ним, даже не взглянувшая на него! А наверху в окне доброе встревоженное лицо больной матери, на котором застыл безмолвный вопрос: что за шум, почему Жан так вдруг заторопился и даже не поцеловал ее на прощанье?
Мысль, что он не поцеловал мать, заставила его вернуться, когда он уже проехал полдороги до Авиньона. Сезер остался под горой караулить повозку с вещами, а Жан пошел по проселку и, как вор, забрался на приусадебный виноградник. Ночь была темная. Путаясь в сухих виноградных лозах, он долго искал в потемках дом, теперь для него чужой, и уже отчаялся выбраться. Но в эту самую минуту перед ним смутно забелели стены, и он вышел прямо к дому. Дверь была заперта, в окнах темно. Позвонить, позвать?.. Он боялся отца. Несколько раз обошел он дом в надежде отыскать хоть одну неплотно прикрытую ставню. Но сегодня, как и всегда, фонарь Дивонны прошелся перед сном по всему дому. Госсен долго смотрел на окно комнаты, где жила его мать, от всего сердца послал прощальный привет родному дому, который сейчас тоже отталкивал его от себя, и, охваченный безнадежностью, с неизбывной теперь уже тяжестью на сердце, пустился бежать прочь.
Обычно перед длительной разлукой, перед путешествиями, во время которых жизнь человеческая зависит от грозных случайностей, от воли моря и ветра, родные, друзья растягивают прощание до самого отплытия, в последний день не расстаются, провожают на корабль, заходят в каюту, чтобы потом легче было мысленно следить за путешественником. Несколько раз в день Жан наблюдает с балкона за такими трогательными проводами, иной раз – шумными и многолюдными, но особенно горько становится ему при виде семьи, которая остановилась этажом ниже. Старик в суконном пиджаке и старуха в желтом полотняном костюме, по-видимому зажиточные провинциалы, приехали проводить сына, и они не уедут отсюда, пока не отойдет пароход. Досуг ожидания проходит у них в том, что они, все трое, матрос – посредине, взявшись за руки и тесно прижавшись друг к другу, смотрят в окно. Они не переговариваются – они сидят обнявшись и молчат.
Жан глядит на них и думает о том, какие чудесные проводы могли бы быть у него… Отец, сестренки… На него опирается ласковой, трепетной рукой та, чей живой ум и смелый дух манит морская даль. Бесплодные сожаления! Преступление совершено, жребий брошен, ему остается только уехать и обо всем позабыть…