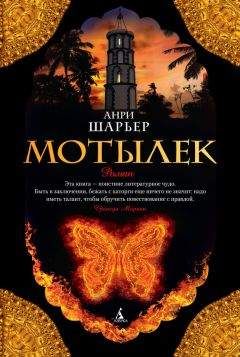Анри Шарьер - Ва-банк
— Вот ненормальный! Ладно, идем, парень.
Но в дисциплинарную тюрьму я попал не за это, а за то, что пытался переделать свою шапочку. Дисциплинарный батальон славился своими традициями. Каждый вновь прибывший отдавался на суд «старикам», они должны были выяснить, настоящий ли ты парень. Доказать это можно было, побив двух-трех «стариков». Впрочем, в школе я прошел хорошую тренировку. Во время второй драки, когда мне разбили губу, а нос превратили в кровавое месиво, «старики» остановили испытание. Я заслужил право быть с ними на равных.
Мы работали на виноградниках, принадлежащих какому-то корсиканскому сенатору. Пахали от зари до зари, без перерыва, под палящим солнцем. Мы уже не считались моряками, а были приписаны к 173-му артиллерийскому полку в Баста. Вечером, перекинув лопату через плечо, заключенные быстрым маршем возвращались в тюрьму, расположенную километрах в пяти. Невыносимые условия! И мы взбунтовались, а я был одним из зачинщиков. И вот с дюжиной других заводил меня отправили в дисциплинарный лагерь в Корт.
Это была огромная крепость на вершине горы, к ней вело шестьсот ступеней, по которым нам нужно было подняться и спуститься дважды в день, мы обустраивали спортивную площадку какого-то богача.
Здешняя жизнь среди отчаянных головорезов, обозленных и одичавших, была сущим адом. Однажды какой-то тип в штатском, приехавший из Корта, сунул мне тайком записку. «Дорогой, если хочешь выбраться из этого жуткого места, отрежь себе большой палец. По закону потеря большого пальца, даже если сохранились остальные, а повреждение произошло случайно во время исполнения службы, может служить основанием для признания непригодности к несению дальнейшей службы и увольнения. Закон этот был принят еще в 1831 году. Жду тебя с нетерпением. Клара. „Мулен-Руж“, Тулон».
Я не стал откладывать дела в долгий ящик. Работа наша состояла в следующем: каждый должен был выбрать лопатой из горы по два квадратных кубометра земли ежедневно, которую затем мы же свозили на тележках за пятьдесят метров к тому месту, где каток разравнивал площадку. Работали по двое. Лопатой разбить палец было нельзя — меня могли обвинить в умышленном членовредительстве, и это стоило бы еще пяти лет тюрьмы.
Я с напарником, корсиканцем по имени Франки, работал у подножия горы, где мы уже вырыли внушительных размеров пещеру. Одного удара кирки было достаточно, чтобы вся эта земляная масса обрушилась нам на головы. Франки подсунул под нависающий край большой камень с острым краем, я сунул под него палец, а в рот — скомканный платок, чтобы ненароком не закричать. На тот случай, если не сработает, Франки заготовил еще один камень килограммов на семь весом, которым собирался размозжить мне этот несчастный палец. Даже если он не оторвется полностью, все равно придется ампутировать.
Сержант, надзирающий за нами, стоял метрах в трех и ковырял землю носком ботинка. Франки поднял камень и что было сил обрушил его на мой палец, который тут же обратился в кровавую кашу. Звука удара сержант не слышал — кругом стучали кирки и лопаты. Два удара киркой — и на меня обрушилась земля. Тут раздались вопли, крики о помощи; наконец они откопали меня, и я появился на свет божий весь в земле и с раздавленным пальцем. Больно было — не передать. Все же я умудрился прошипеть сержанту сквозь стиснутые зубы:
— Вот увидите, скажут, что я это нарочно подстроил.
— Нет, Шарьер. Я все видел, я свидетель. Я, конечно, строг, но справедлив. Расскажу им все, как было, не бойся.
Два месяца спустя я был уволен с пенсией по инвалидности, но без пальца, он остался похороненным под Кортом. И тут же отправился в Тулон, где не преминул заглянуть в «Мулен-Руж» поблагодарить малышку Клару. Она постаралась убедить меня, что и без пальца я парень хоть куда и что его отсутствие нисколько не помешает мне с тем же успехом заниматься любовью. А что может быть важнее этого?
— Ты изменился, Рири. А вот как, пока еще не пойму. Надеюсь, трехмесячное пребывание в этом аду не оставило в твоей душе слишком глубокой раны?
Я вновь был дома, с отцом. Какую же перемену имел он в виду?
— Не знаю, папа. Думаю, что стал еще непокорнее и еще меньше желаю подчиняться правилам и законам, которые ты внушал мне с детства. Наверное, ты прав, что-то действительно изменилось… Я снова дома, где был так счастлив когда-то с мамой и сестрами. Но когда я вспоминаю маму, душа уже не так болит. Должно быть, я ожесточился.
— Что собираешься делать?
— А что бы ты посоветовал?
— Как можно быстрее поступить на службу. Тебе ведь уже двадцать, мой мальчик.
Два экзамена. Один в Прива, на должность почтового служащего, другой в Авиньоне на гражданскую должность в военном управлении. Оба, и устный, и письменный, я выдержал превосходно. И я уже был не против последовать совету отца и стать служащим, вести достойную, обеспеченную жизнь. Однако в глубине души не мог удержаться, чтоб не задать себе вопрос — долго ли удастся удержаться на этой службе молодому Шарьеру, у которого все так и кипит внутри?..
Утром по почте пришли результаты экзаменов, и отец так радовался, что решил устроить вечеринку в мою честь. Праздник был отмечен огромным тортом, шампанским и молодой девицей, дочерью коллеги отца, приглашенной на ужин. «Она может стать тебе прекрасной женой, мой мальчик».
Я прогуливался по саду с девушкой, которую отец прочил мне в жены и которая, как он уверял, должна была непременно осчастливить его сына. Она была хорошенькая, отменно воспитана и очень неглупа.
Но через два месяца грянул гром. «Поскольку в центральное управление не поступило справки, удостоверяющей вашу отличную службу во флоте, с сожалением информируем вас, что данное место вы занять не можете».
Все иллюзии отца разлетелись в прах, он стал задумчив и молчалив — очень переживал.
Однажды дедушка застал меня на пороге дома с чемоданом.
— Куда это ты собрался, Анри?
— Туда, где с меня не потребуют справки об отличной службе на флоте. Хочу повидать одного человека, с которым познакомился в дисциплинарном батальоне. Он научит меня жить вне законов этого общества. До сих пор я был достаточно наивен, чтобы верить в это общество, а теперь знаю мне от него нечего больше ждать. Еду в Париж, дедушка.
— А что будешь там делать?
— Еще не знаю, но наверняка ничего хорошего. Прощайте, дедушка. И поцелуйте отца от меня.
Земля уже совсем близко. Можно даже различить окна в домах. Итак, после долгого, бесконечно долгого путешествия в двадцать шесть лет я возвращаюсь на родину, увижу своих родных…
Мы переписывались последние годы, но что значат эти письма перед мнением окружающих их людей — соседей и знакомых? Они, наверное, страшно нервничают и опасаются момента встречи с братом, беглым каторжником.
Я был бы разочарован, если бы они пришли на эту встречу из чувства долга, мне хотелось, чтобы ими двигало искреннее, сердечное чувство. Ах, если бы только они знали — а берег все ближе и ближе, — если бы они знали, что все тринадцать лет каторги я думал о них. Если бы мои сестры могли видеть те картинки детства, что я вызывал из своей памяти в застенках одиночки! Если бы знали, что в самые тяжкие моменты именно в этих картинах и воспоминаниях черпал я силы, чтобы преодолеть непреодолимое, найти покой в храме отчаяния, удержаться от самоубийства, наконец, если бы знали, что долгие месяцы, дни, часы и даже секунды полного, абсолютного одиночества и молчания были заполнены воспоминаниями о самых мельчайших и, возможно, незначительных, на их взгляд, подробностях и моментах из нашего общего, такого чудесного детства!
А берег все ближе, вот уже показалась Барселона, сейчас корабль войдет в гавань. Я с трудом подавлял желание закричать во весь голос: «Эй, слышите?! Я уже близко, рядом! Идите же, идите мне навстречу, быстрее!» Так я когда-то кричал сестрам, когда мы гуляли в поле под Фабра и я нашел вдруг целые заросли чудесных диких фиалок
— Что ты здесь делаешь, милый? Ищу тебя уже целый час. Даже в трюм к машине спускалась.
Не вставая, я обнял Риту за талию и притянул к себе. Она наклонилась и легонько чмокнула меня в щеку. Только тут я со всей остротой осознал, что, хотя я и собираюсь встретиться со своими родными и жду этой встречи с нетерпением, моя настоящая семья — та, что сейчас в моих объятиях, мое счастье, которое я создал своими руками, выстрадал и которое с лихвой вознаградило меня за все мытарства и лишения. И я сказал:
— Милая! Я сидел здесь и переживал все свое прошлое, смотрел на приближающийся берег, на землю, где находятся дорогие мне люди, живые и мертвые.
Я припарковал свой «линкольн» у границы с Францией.
Вот они! Бегут мне навстречу, мои родные!
Первой добежала Элен с распахнутыми для объятий руками. Я пошел навстречу, в горле стоял ком, и когда нас разделяло всего метра три, мы остановились и стояли молча, глядя друг другу в глаза. В наших глазах блестели слезы, и они говорили: «Это она, моя маленькая Нене!» — «Это он, мой братишка Рири, вернулся из далекого прошлого!» И мы бросились друг другу в объятия. Странно, но мне моя пятидесятилетняя сестра вовсе не показалась постаревшей. Я не замечал ни морщин, ни седины в ее волосах, не видел ничего, кроме ослепительного сияния ее глаз, все тех же милых и добрых глаз.