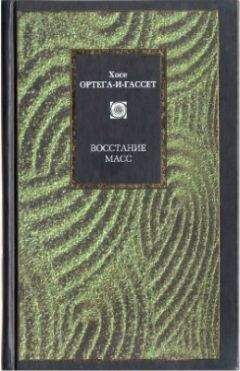Хосе Ортега-и-Гассет - Анатомия рассеянной души. Древо познания
Все подобные формы индивидуальности оказываются внешними. И, кроме того, я считаю, они имеют тот недостаток, что слишком заискивают перед людьми, склоняя их непомерно высоко оценивать свое наличное состояние, то, что составляет их материю, вместо того, чтобы заставлять их полагаться на собственные действия. Насколько точнее высказывания Сервантеса: «каждый — сын своих поступков» и «прими в расчет брат Санчо, что никого нельзя считать выше другого, пока он не сделает больше другого»! В этом направлении и нужно искать настоящее представление об индивидуальности: не быть другим, а становиться другим — вот что такое личность. Индивидуум — это сила, творящая различия, а не что-то иное.
В индивидуальности нужно видеть не результат, а только форму движения, операционную активность. Труднее всего обнаружить индивидуальность, упорно замыкаясь в себя, нужны постоянные предприятия и испытания, чтобы расширять наши границы. Личность — это чистое усилие, с помощью которого мы впитываем чужое. И, следовательно, нет ничего более противоположного этому личностному поиску себя, как избегать всех остальных. И однако почти всегда, если кто-то защищает индивидуализм, так это потому, что он использует его как псевдоним, под которым прячется обида, та нестерпимая обида, что грызет его изнутри. Не такая уж редкость встретить писателей, которые могут писать, лишь отталкиваясь от идей, утвержденных кем-то другим, скорее обеспокоенных их отрицанием, чем изобретением своих собственных, более обоснованных. И этим они не добиваются ничего, кроме молчаливого утверждения, что этот другой и есть настоящая цельная личность, а они сами — просто осколки мертвой материи, приговоренной вечно притягиваться к энергетическому центру.
Мы понимаем слово «я» в значении императива: тот, кто жаждет проявить силу индивидуальности, и уполномочен в мире на многое, он дышит полной грудью, впитывая окружающую вселенную. Все остальное есть инертность, высокомерие и галлюцинации. Дела, индивидуальные дела — вот достояние личности. Большое «Я» местоимения первого лица представляется клещами[290], поддерживающими форму поступков человека. И этот замечательный парадокс, — как я формируется тем, что не есть я, тем, что находится вовне, большим окружающим миром, — кроется в парадоксальном высказывании Сервантеса: Каждый есть сын своих дел. То есть сначала какие-то бесхозные вещи, которые безразлично освещает солнце, а затем предметный мир формирует особенное завихрение, некое единонаправленное движение — это и есть личность.
IV. Заключение
«Жизнь вообще и прежде всего своя собственная жизнь казалась ему чем-то безобразным, смутным, мучительным и неподвластным» (154). Это горькое признание в «Древе познания» сделано столь прямодушно, что мы не можем не быть благодарны за него. Бароха своим собственным свидетельством обозначает место, где должно обнаружиться здание его души, но где вместо этого лежат одни отбросы.
Во времена еще не столь отдаленные проклинать Вселенную было эквивалентно тому, что закладывать основы тонкого и вдохновенного изобретения. Мысли философов должны были быть мрачными. Артисты, чтобы не выглядеть глупо, отказывались давать представления тонкого вкуса. Шопенгауэр назывался глубоким[291] из-за своего чутья, действительно выдающегося, чтобы читать письмена мира. И венцом этой тенденции была двусмысленность крайнего пессимизма.
Бароха довел эту тенденцию до самого отчаянного однообразия. Мы едва ли можем вспомнить хоть что-то, что ему в какой-то момент — должно быть по рассеянности — показалось бы положительным. Ни разу зрачок этого человека не расширился от радостного изумления или восхищения.
И это очень странно, потому что в характере Барохи — любопытство человека, постоянно занятого новыми темами самой разной значимости. Однако его сердце — можно найти тому подтверждения — никогда не испытывает того неожиданного расширения, при котором увеличивается объем восприятия, необходимый для накопления подлинных, хотя и редко встречающихся сокровищ, он не ловит на лету наши слова, а сразу стремится выпалить все, что думает.
Бароха, может быть, и самый чувствительный из всех испанцев, но вместе с тем — один из тех, кому в наименьшей мере дарована способность восхищаться. Это какое-то дополнительное несоответствие, которое усложняет его психологию. Он объездил Англию, Францию, Италию, Испанию; видел ландшафты и памятники этих стран, посещал там музеи, читал лучшие книги. Все напрасно. Ничто не вызвало его восхищения: все показалось ему уродливым и грязным. Его книги, которые начинаются динамичным и утверждающим посылом, кончаются подборкой мнений об omni re scibile[292]. И эти мнения, почти без всякого исключения, — неблагоприятные и уничижительные. В конце концов мы приходим к убеждению, что для Барохи понять что-то означает это что-то принизить.
Так же поступает Бароха и со всем, что его окружает. Увы, мы воспитаны педагогикой презрения. Восхищение кажется нам слабостью. Когда что-то вызывает наше восхищенное уважение, мы тут же начинаем подозревать себя в получении взятки.
Очевидно, что такая моральная ситуация — состояние болезненное, которое нужно поскорее преодолеть. Потому что истина совершенно в противоположном. Восхищение и уважение — симптомы здоровой личности, и более того, ее необходимые предпосылки.
Восхищение застает душу врасплох, всю ее затопляет и потрясает: это как внезапный электрический разряд, который представляется чем-то большим, чем просто ослепляющая вспышка. Восхищение возникает тогда, когда мы хотим рассмотреть объект в таком сильном освещении, что его собственные форма и цвет исчезают в лучах нимба бесконечных отражений. Наш взгляд силится проникнуть сквозь эту световую аморфную атмосферу и, не отвлекаясь на нее, уловить форму объекта, ведь невозможно оценить новый объект тем же способом, каким мы оцениваем монету по ее серебряному отливу. Да и вообще никакой объект не бывает полностью свободен от отражений, в большей или меньшей степени любая поверхность подправляет свой образ отражениями от окружающих предметов. А значит, любые объекты нашего восприятия всегда должны предварительно освобождаться от отражений, чтобы обнаружить собственную форму. Разница между обычным видением и видением ослепленным зависит только от того, предстает ли объект перед нами наполненным привычными отражениями или же отражениями, к которым мы еще не успели привыкнуть. Например, если естественный блеск металлической цветочной вазы нас не беспокоит, то солнечный свет на фоне темной стены слепит нам глаза. Ослепление, следовательно, происходит, когда мы встречаемся с чем-то неожиданным. Мы оказываемся не готовы воспринять это расширение бытия, и акт восприятия терпит неудачу: и тогда мы закрываем глаза, чтобы слегка приоткрыть их для новой попытки, для более скрупулезного взгляда, который ищет не только то, что уже известно, но и то, что начинает прощупываться. Это — взгляд исследовательский.
Традиционная метафора, которая сравнивает ослепление с восхищением, строится, строго говоря, на основании действительного тождества. Восхищение возникает, когда от одной стадии знаний мы переходим к другой, более высокой. В каждый момент нашей духовной жизни мы способны воспринимать определенное количество и качество отношений между вещами. Когда перед нами предстает объект, который несет в себе большее богатство этих отношений, напряжение нашего сознания поневоле возрастает: интенсивности, к которой мы привыкли ранее, оказывается недостаточно для того, чтобы воспринять посредством акта духовного синтеза новую, высшую сложность. От этого возникает некое потрясение, в процессе которого душа возвышается и сосредоточивается, в результате чего от недостаточно активной жизни мы переходим к жизни более напряженной.
В кризисные моменты нашего духа мы не можем обойтись без сильных эмоций, предшествующих нашей интеллектуальной работе. В возникающем восхищении таится смутная оценка сокровища, которое, как нам кажется, лежит прямо в руках, в той самой руке души, о которой говорит Аристотель[293]. Мы еще не представляем детально этого сокровища, еще не в состоянии взвесить его грамм за граммом. Может быть, мы ошибаемся, и предполагаемое богатство окажется чисто воображаемым. Но, с другой стороны, если воспринимать как высшие ценности только то, в чем мы заблаговременно удостоверились при помощи холодного расчета, то о каком восхищении может идти речь? А если бы не было такого явления, как восхищение, то чем бы стимулировалось наше сознание в своей тяге к расширению? Мы вступили бы в порочный круг, не признав очевидного, а именно: интеллектуальный прогресс нашего духа, осуществляется не постепенно, а моменты его роста обусловлены толчками эмоций. Рассудок сам по себе сопротивлялся бы выходу за границы того, чем он уже овладел и что описал: управляемый принципом тождества, он всегда враждебен новому, а новое — это, прежде всего, то, что не тождественно старому. Отсюда следует: для того, чтобы охватить всю широту духовного мира, недостаточно развитой сферы рассудка. Различение того, что является истиной, а что нет, без сомнения, — задача интеллекта; но суть в том, что определение истины как чего-то, заслуживающего быть найденным, требует не только правды рассудка, но и акта веры. Значит, в действительности не так уж неправы древние религии, которые начинают с веры, а не только заканчивают ею.