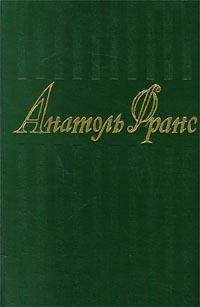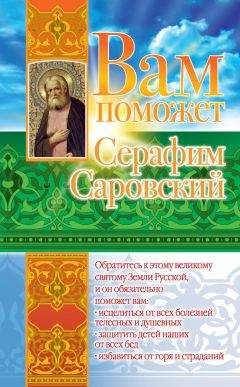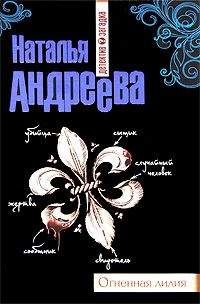Анатоль Франс - 3. Красная лилия. Сад Эпикура. Колодезь святой Клары. Пьер Нозьер. Клио
Дешартр, уже час ждавший ее прихода, радостный, все еще беспокойный, весь дрожа от счастья и волнения, спустился с крыльца. В прохладном сумраке передней, где смутно угадывался строгий блеск мрамора и бронзы, она остановилась, оглушенная биением собственного сердца, — оно так и колотилось у нее в груди.
Он прижал ее к себе и долго целовал. Тереза, у которой кровь стучала в висках, слушала, как он вспоминает о жгучем блаженстве, испытанном вчера. Она представила себе атласного льва на коврике у кровати и с упоительной медлительностью вернула Жаку его поцелуй.
Он провел ее по угловатой деревянной лестнице в обширную комнату, прежде служившую кабинетом его отцу, где сам он теперь рисовал, лепил, а главное — читал; чтение он любил, как некий опиум, предаваясь мечтам над недочитанной страницей.
Чудесные гобелены XVI века, на которых среди сказочного леса можно было смутно различить даму в старинном головном уборе, а у ног ее, на траве, покрытой цветами, единорога, подымались над шкафами до самых балок потолка, выкрашенных масляной краской.
Он подвел ее к широкому низкому дивану, покрытому подушками, которые были обшиты великолепными лоскутьями испанских риз и византийских церковных одеяний; но она села в кресло.
— Вы пришли, вы пришли! Теперь хоть миру конец.
Она ответила:
— О гибели мира я думала прежде, но я ее не боялась. Господин Лагранж пообещал ее мне из любезности, и я ее ждала. Пока я вас не знала, мне было так скучно!
Она оглядела комнату, столы, уставленные вазами и статуэтками, гобелены, великолепное и беспорядочное нагромождение оружия, эмалей, мрамора, картин, старинных книг.
— У вас много красивых вещей.
— По большей части они достались мне от отца, который жил в золотое для коллекционеров время. Например, гобелены с единорогом отец нашел в тысяча восемьсот пятьдесят первом году в одной гостинице в Мен-сюр-Иевре, а полностью вся эта история изображена на гобеленах, хранящихся в Клюни.
Но ее любопытство было обмануто, и она сказала:
— Я не вижу ваших вещей, ни одной статуи, ни одного барельефа, ни восковых фигур, которые так любят в Англии, ни одной статуэтки, ни одной дощечки, ни одной медали.
— Неужели вы думаете, что мне было бы приятно жить среди моих произведений!.. Я их слишком хорошо знаю… Они мне надоели. То, в чем нет тайны, лишено прелести.
Она с притворным недовольством посмотрела на него.
— Вы мне не говорили, что прелесть для вас теряется, когда исчезает тайна.
Он обнял ее за талию.
— Ах! во всем, что живо, слишком много тайн. А ты для меня, любимая, остаешься загадкой, и ее неведомый смысл таит все блаженство жизни и все муки смерти. Не бойся быть моей. Ты всегда будешь желанной для меня, и я никогда не узнаю тебя. Разве обладаешь тем, что любишь? Поцелуи, ласки — да разве это не порыв блаженного отчаяния? Когда я держу тебя в объятиях, я все еще тебя ищу и ты никогда не бываешь моей, потому что я всегда хочу обладать тобою, хочу в тебе невозможного и беспредельного. Что ты такое — да разве я узнаю это когда-нибудь? Ведь если я и вылепил несколько жалких статуэток, я еще не скульптор. Я скорее нечто вроде поэта и философа, который в природе ищет поводов для тревог и терзаний. Чувства формы для меня недостаточно. Мои собратья надо мной смеются, потому что у меня нет их простоты. Они правы. И это животное Шулетт тоже прав, когда требует, чтобы мы жили без мыслей и без желаний. Наш друг сапожник на площади Санта-Мария-Новелла, не знающий всего того, что сделало бы его несправедливым и несчастным, мастер в науке жизни. Я должен был бы любить тебя просто, без всей этой метафизики страсти, которая делает меня безрассудным и злым. Хорошо лишь неведение и забвение. Иди ко мне, иди, я так измучился, думая о тебе, когда терзался вдали от тебя. Лишь в твоих объятьях я могу забыть тебя и забыться сам.
Он обнял ее и, приподняв вуалетку, стал целовать ее в губы.
Чуть испуганная, как бы смущенная взглядами всех этих необыкновенных вещей, окружавших ее в большой незнакомой комнате, она опустила до подбородка черную вуаль.
— Здесь! Да что вы!
Он ответил, что они здесь одни.
— Одни? А тот человек со страшными усами, что отворил мне калитку?
Он улыбнулся:
— Это Фюзелье, старый слуга моего отца. Он и его жена — весь мой штат. Не беспокойтесь. Они сидят у себя, да и старые ворчуны мне преданы. Госпожу Фюзелье вы увидите; она держится бесцеремонно, предупреждаю вас.
— Друг мой, почему у Фюзелье, швейцара и дворецкого, усы как у татарина?
— Дорогая, ими его наделила природа, и я их охотно ему оставляю. Мне приятно, что у него вид отставного фельдфебеля, ставшего садовником, и что я могу себя тешить иллюзией, будто он мой сосед по деревне.
Усевшись в углу дивана, он привлек ее к себе на колени и стал целовать; она отвечала на его поцелуи. Вдруг она поднялась.
— Покажите мне другие комнаты. Я любопытна. Мне хочется все видеть.
Он повел ее на верхний этаж. По стенам коридора развешаны были акварели Филиппа Дешартра. Он открыл одну из дверей и ввел ее в комнату с палисандровой мебелью.
То была комната его матери. Он сохранял ее в неприкосновенности, во власти недавнего прошлого — только оно и трогает и печалит нас по-настоящему. Комната, в которой уже девять лет никто не жил, не казалась еще обреченной на запустение. Зеркальный шкаф словно ловил взгляд старой дамы, а на ониксовых часах скучала задумчивая Сафо, уже не слыша стука маятника.
На стенах было два портрета. Один из них, работы Рикара[122], изображал Филиппа Дешартра, очень бледного, со всклокоченными волосами, со взглядом, погруженным в романтическую грезу, с выразительным и добрым ртом. На другом портрете, писанном менее порывистой рукой, представлена была дама средних лет, почти красивая, несмотря на свою резкую худобу. Это была жена Филиппа Дешартра.
— Комната покойной мамы — вроде меня, — сказал Жак, — она умеет помнить.
— Вы похожи на мать, — заметила Тереза. — У вас такие же глаза. Поль Ванс мне говорил, что она вас обожала.
— Да, — ответил он, улыбаясь, — она была хорошим человеком: умная, милая, с очаровательными странностями. Материнская любовь доходила у нее до безумия, и она не давала мне ни минуты покоя; она себя терзала и терзала меня.
Тереза рассматривала бронзовую фигуру работы Карпо[123], стоявшую на шифоньере. Дешартр сказал:
— Узнаете императора по ушам, похожим на крылья Зефира, — они оживляют его холодное лицо. Это бронза — подарок Наполеона Третьего. Мои родители бывали в Компьене. Мой отец, когда двор находился в Фонтенебло, составлял план замка и рисовал галерею. По утрам император в сюртуке и с пенковой трубкой приходил и становился возле него, как пингвин на скале. В то время я учился в лицее Бонапарта. Рассказы об этом я слушал за столом, и они мне запомнились. Император стоял спокойный и кроткий и только изредка нарушал молчание, что-то бормоча в свои густые усы; потом он немного оживлялся, начинал излагать проекты всяких машин. Он был изобретатель и механик. Вынув из кармана карандаш, он для наглядности принимался чертить на рисунках моего отца, которого это приводило в отчаяние. Он таким образом портил ему два-три этюда в неделю… Он очень любил моего отца и все обещал ему работы и почести, которых отец так и не дождался. Император был добрый, но не имел влияния, как говаривала мама. В то время я еще был мальчишкой. С той поры у меня осталась какая-то смутная симпатия к этому человеку, у которого вовсе не было таланта, но была нежная душа, который к великим потрясениям жизни относился с мужественной простотой и кротким фанатизмом… А кроме того, он мне симпатичен еще и потому, что его победили и предали поруганию люди, стремившиеся занять его место и даже не знавшие той любви к народу, которая таилась у него в душе. Потом мы их видели у власти. Боже! до чего они омерзительны. Сенатор Луайе, например, который у вас в курительной набивал себе сигарами карманы и советовал мне делать то же самое. «На дорогу», — говорил он. Этот Луайе — гнусный человек, он жесток к несчастным, к слабым, к смиренным. А Гарен — как по-вашему, не мерзкая у него душа? Помните, первый раз, что я у вас обедал, разговаривали о Наполеоне. Волосы у вас были высоко подобраны и заколоты бриллиантовой иглой, они так мило и причудливо вились над затылком. Поль Ванс говорил с тонким остроумием, а Гарен не понимал. Вы спросили мое мнение.
— Для того, чтобы дать вам блеснуть. Я уже и тогда гордилась вами.
— О! я даже и одной фразы не мог бы придумать в обществе таких серьезных людей. Все же мне хотелось сказать, что Наполеон Третий мне нравится больше, чем Первый, может быть потому, что он как-то спокойнее, но, пожалуй, эта мысль произвела бы дурное впечатление. Впрочем, я не так бездарен, чтобы заниматься политикой.