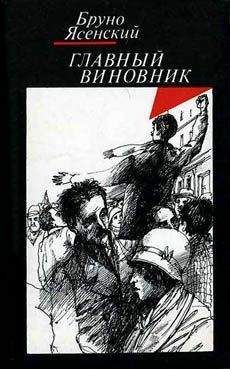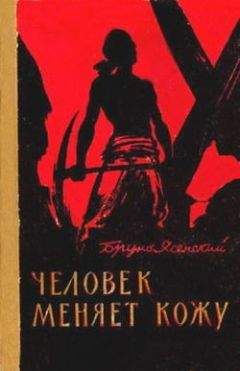Бруно Ясенский - Я жгу Париж
Мистер Давид Лннгелей в первый раз понял то, что он называл всегда добродетельным психозом стареющих миллионеров, всех этих Карнеджи и Рокфеллеров, завещающих миллионные суммы на благотворительные цели, основывающих миллионные фонды своего имени. Вдруг почувствовал и понял кричащий в них старческий страх перед небытием, судорожное усилие остаться в чем-либо, прилепиться к чему бы то ни было хотя бы буквами собственной фамилии. В первый раз пожалел, оправдал снисходительной улыбкой. Бедные! Финансируя чужую идею, они обманывают себя, воображают, что закрепляют себя в ней, прицепив к ней свою визитную карточку, так же мало имеющую общего с их личностью, как номер их чековой книжки, который они могли бы отпечатать на ней с равным успехом.
Здесь обеспокоился даже сорокалетний господин, почувствовав ускользающую из-под ног почву, и судорожными пальцами стал хватать воздух.
Сорокалетний господин был не в силах соперничать с логическими выводами мистера Давида Лингслея; глухим звериным инстинктом он стал искать чего-либо, за что можно было б зацепиться, как моллюск, чувствующий приближающуюся волну, которая его смоет, судорожно ищет выступа, шероховатости скалы, чтобы к ней присосаться на время опасности.
Бродя ощупью в пустоте сознания, сорокалетний господин наткнулся вдруг на знакомое, притаившееся там лицо и внезапно съежился…
Мистер Давид Лингслей был человеком бездетным. Эта маленькая печаль постоянно точила его, как червяк, хотя он не сознавался в ней даже перед самим собой. Уверившись на тридцать шестом году жизни, что детей у него не будет, мистер Давид Лингслей впервые подумал о родственниках. У него когда-то был брат, который, как он в свое время узнал, умер с голоду в какой-то норе в предместье Лондона. На такого человека, лишенного всяких семейных чувств, как мистер Давид, известие это не произвело ни малейшего впечатления. Докучало немножко сознание вины (когда-то в отцовском завещании пришлось сделать маленькую поправку…). Подумав о родственниках, мистер Давид вспомнил, что после неудачника-брата осталось какое-то потомство, и решил его отыскать. После долгих поисков он разузнал, что из целого потомства остался в живых лишь двадцатилетний юноша, по имени Арчибальд Лингслей, зарабатывающий сам себе на жизнь в Лондоне.
Приказав переслать ему пароходный билет первого класса и несколько тысяч долларов на ликвидацию дел в Европе, мистер Давид в коротком письме предложил племяннику переехать учиться в Нью-Йорк.
Приехал тощий высокий мужчина, с добрыми карими глазами, с прядями светлых шелковистых волос на умном широком лбу, с лицом худым и болезненным, изрубцованным прорехами преждевременных морщин. Поселился он в левом флигеле дворца.
Мистеру Давиду понравилось широкое открытое лицо племянника, и он решил, откормив его, сделать его своей правой рукой. Сразу, однако, пошла канитель. Племянник оказался коммунистом и, не распаковав еще как следует жиденького чемоданчика, принялся за агитацию на заводах у дяди. Мистер Давид принимал тревожные доклады на этот счет от подчиненных директоров со снисходительной улыбкой.
Желая положить конец юношеским сумасбродствам племянника, он назначил его генеральным секретарем одного из своих предприятий, в длинной, ласковой и задушевной беседе дав ему понять, что выбрал его себе в компаньоны и наследники.
Племянник службу принял, но агитации не прекратил. Кончилось тем, что взбаламученные рабочие в одно прекрасное утро завладели заводом и объявили его собственностью заводского комитета. Пришлось прибегнуть к помощи полиции и с трудом восстановить порядок, убрав зачинщиков.
После бурного разговора между дядей и племянником дело дошло до окончательного разрыва.
С тех пор мистер Давид Лингслей не хотел больше слышать о неблагодарном племяннике, которого и след простыл.
Вплоть до одного весеннего дня. К этому времени из-за увольнения нескольких главарей на четырнадцати фабриках мистера Давида Лингслея вспыхнула забастовка. По приказу мистера Давида управление объявило заводы закрытыми, рассчитав всех рабочих. Уволенные рабочие попытались овладеть фабриками силой. Управление вызвало воинские части. Силой вытесненная из заводских строений толпа организовалась в шествие и боковыми улицами со всех сторон хлынула к дворцу мистера Давида Лингслея. Зазвенели стекла.
Выведенный из себя мистер Давид позвонил в полицию за подкреплением. Полицейский комиссар, состоявший у него на жалованье, услужливо спросил по телефону, желает ли он, чтобы полиция пустила в ход оружие. Мистер Давид лаконически брякнул:
– Считаю, что пора покончить с этой смутой. Ваши слезоточивые бомбы не производят никакого впечатления. Толпа привыкла к холостым патронам и не обращает на них ни малейшего внимания. Два настоящих залпа рассеют демонстрантов и отобьют у них охоту на будущее время. Впрочем, это уже ваше дело.
Комиссар не обманул питаемого к нему доверия. Мистер Давид имел возможность видеть лично из-за занавески, как из боковой улицы вдруг показался отряд полиции, как грянул залп, и толпа в смятении обратилась в бегство. Через пять минут площадь опустела, если не считать нескольких человек, оставшихся неподвижно лежать на асфальте.
Минуту спустя в кабинет мистера Давида лично явился полицейский комиссар. Видимо смущенный, он мял безукоризненно белые перчатки. Мистер Давид сначала не мог понять причины его визита.
– Ваш племянник… – бормотал комиссар. – В первом ряду… Нельзя было предвидеть…
– Убит? – сухо спросил мистер Давид.
– Да… – выкашлял несколько ободренный его тоном комиссар. – Прикажете перенести его сюда?
– Нет, что вы! – удивился мистер Давид. – Хотя, впрочем… вы правы… Прикажите перенести убитого в его комнату, в левом флигеле.
Поздно вечером, в первый раз за весь год, мистер Давид появился на пороге комнаты племянника. Племянник лежал на тахте, закинув голову, и из уголков рта двумя тоненькими струйками стекала кровь на дорогой ковер.
Мистер Давид Лингслей видел с этих пор много лиц, живых и мертвых, но это одно, неестественно увеличенное, осталось навсегда висеть на завешанной всякой мишурой стене его памяти.
Он способен был понять все: рабочие волнуются, идут грудью навстречу залпам полиции. Не видел в этом никакого геройства. Просто нищие завидуют богатым. Какое уж тут геройство? Увеличить заработки – и вернутся послушно на работу. Не ненавидел их даже – просто презирал.
Но здесь обрывались все логические предпосылки. Племянник мистера Давида Лингслея, будущий наследник тридцати фабрик, ведущий на разграбление предназначенных для него в будущем богатств оборванную, хищную толпу…
Это не могло никак уместиться в голове мистера Давида, и его мысль, привыкшая вращаться во всех социальных широтax, как в своем личном кабинете, ударялась об это лбом, как о неопределенную стену.
Опять широким потоком полились цифры, но не смыли, не стерли никогда бледного лица с прядями светлых волос и двумя струйками крови в страдальческих уголках губ. Племянник Арчи, похороненный на кладбище в родовом склепе Лингслеев, явно издевался над дорогими мраморными плитами, продолжая свою прерванную работу. Из толпы осажденных демонстрантов, из телеграммы о новой забастовке, из столбца утренней газеты, извещающей о революции в Китае, – отовсюду глядело на мистера Давида Лингслея бледное лицо с шапкою светлых волос, бодрствующее, вездесущее, неуничтожимое.
Неоднократно, когда мистеру Давиду приходилось пробегать глазами доклад о преувеличенных требованиях рабочих, когда нетерпеливая рука тянулась к телефонной трубке, чтоб проворчать в нее лозунг локаута, – из трубки, как улитка из раковины, вдруг выползало навстречу лицо племянника Арчи, и мистер Давид откладывал трубку, брал опять доклад в руки, шел на уступки.
Бессознательно – где-то глубоко, под устоями «принципов» и «мнений», в маленьком блиндированном сейфе души – племянник Арчи остался навсегда символом бескорыстного идеализма; и беззастенчивый мошенник и грабитель, мистер Давид Лингслей, когда ему изредка случалось сделать какой-либо действительно бескорыстный жест, тайком от самого себя, как еврей – мезузе, касался пальцами дверцы этого сейфа, словно с невольной гордостью ища в нем одобрения.
Так и сегодня, когда седобородый равви Элеазар и плотный господин в американских очках предлагали ему сделку, в безнравственности которой у него не было ни малейших сомнений, мистер Давид Лингслей, готовый было уже на нее пойти, инстинктивно протянул руку в этот потаенный уголок и, неожиданно для самого себя, с катоновской непреклонностью ответил отказом.
И теперь, когда вылущенный из одежды, голый сорокалетний мужчина перед лицом обступающего его небытия судорожным криком рук искал вокруг себя чего-то, к чему можно было бы прилепиться, на чем запечатлеться, закрепить себя навсегда, наперекор очевидности смерти и процессу разложения, руки его наткнулись в пустоте на бледное лицо в шапке светлых волос, и сорокалетний человек вздрогнул, будто коснулся электрического провода.