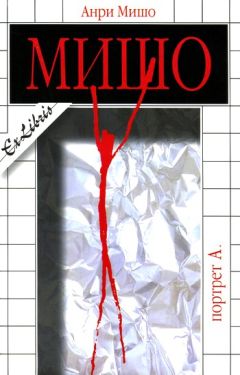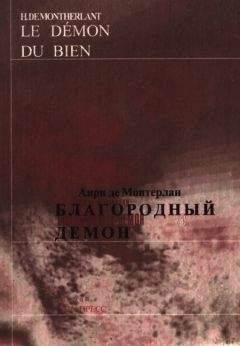Анри Мишо - Портрет А
И надо снова становиться отцом и управлять, управлять ребенком, управлять своим голосом, управлять своим взглядом, управлять его матерью, управлять всем ходом событий. И в эту минуту за окном внезапно пробегает здоровенная псина, и ребенок сосредотачивается на ней, ощущая в себе порывы к четвероногости, приятное разрастание своего существа, и уже не думает о вашем существовании, попросту нахально забывает о нем.
В любом случае, на вас обрушиваются заботы, вы считаете деньги, и я — я тоже считал деньги, и дела обстояли плачевно, потому что, как за них ни возьмись, они все равно обстоят плачевно, и денег не хватает, и всегда будет не хватать, и всегда не хватало.
Это в порядке вещей, и я не первый, кто считал деньги и видел, что дела обстоят плачевно. Но именно из-за денег, которые мне постоянно приходилось считать ради этого кошмарного ребенка, я и решил его отослать. Я хотел отправить его в деревню. Не обошлось и без возражений. Потому что, если бы не было возражений, можно было бы понаделать целую кучу детей, учитывая, насколько простое это дело.
В ожидании подходящего места в деревне мы поместили его к кузине моей жены, кузина не представляла собой ничего особенного, а муж ее был скульптор — такой же скульптор, как я — папа римский.
Но сад у них был почти как парк, такой же большой, а очень желательно, чтобы ребенок орал в чужом саду, даже если это сад отвратного скульптора.
А скульптор в качестве модели для эскизов держал в яме медведя.
Если честно, я не подумал об этом. Не скажешь, что это мудро, но я не подумал.
И так случилось (нет, ну правда… я в самом деле об этом не подумал), случилось, что однажды ребеночек ползал, ковылял — это была его первая в нашем мире большая прогулка — и добрался (подумать, как он был рад!), добрался до ямы и обнаружил медведя. Какой смешной дядя, такой пушистый! и медвежьи злобные умные глазки тоже его увидели, и он вытянул мохнатую лапу с когтями, ужасно длинными когтями, и схватил моего ребенка, которому он показался забавным, и придушил его.
Для матери это было ужасное горе, она не могла не убиваться, вспоминая об этом, и все в мире казалось ей мрачным и бессмысленным. А я? Ну что я? Надо же, чтобы впутался в дело этот чертов медведь?
Может, когда-нибудь мне и удалось бы привыкнуть, что я отец?
Из сборника
«Испытания, заклинания: 1940–1944»{114}
Цепочка человечков
(пер. А. Поповой)
В конце долгой болезни, после большого упадка сил, я встретился с цепочкой человечков.
Мне бы их выгнать, но я сам тогда еле держался на ногах… И они прошли сквозь меня: у меня-то рост оставался прежним, а они — малюсенькие, и мне стало ужасно не по себе… Иногда они просто стояли передо мной, но и тогда мне было не легче: я знал, что скоро они снова пройдут сквозь меня, что ткани моего тела им не помеха — словно косяк сардин, неторопливо пересекающий северные моря.
Продвигались они, как правило, напряженно, будто в области повышенного давления.
Не могу утверждать, что они наносили какой-то ущерб. Но после них оставался неуловимый след, и он был мне отвратителен.
Мне бы привыкнуть, но кто же, узнав, что у него в зубе дырка, будет дальше жевать как ни в чем не бывало? А у меня был затронут не просто зуб, а все тело.
Иногда внутри у меня вытвердевал стержень, и я думал: «Вот теперь давайте, приходите. Посмотрим, удастся ли вам пройти… и если вы решите пробивать себе путь, я вам выставлю преграду».
В такие моменты они исчезали из виду. Однако мои силы улетучивались вместе с кофеином, и я снова ощущал свою пустотелость, я был со всех сторон до безобразия открыт для цепочки человечков, всегда готовых пройти сквозь меня. Для них это не составляло никакого труда, а на меня они вообще не обращали внимания.
И все же я погрузился в глубокий сон, а потом вновь обретенное подобие здоровья позволило мне после долгого уединения принять нескольких посетителей. Я глядел на них с удивлением.
Пока я молча, откинувшись на подушки, рассматривал знакомых, застывших в благопристойном проявлении сочувствия, я заметил, что у них тоже есть цепочки человечков (человечки, впрочем, были мягче и гибче моих), и посетители мои иногда ими обменивались, не придавая этому никакого значения.
Я же был так слаб, что моих человечков никто не мог ни отобрать, ни обменять на своих.
Поменять их, может, было бы и неплохо — и для здоровья полезно, и развлечение (я сужу по другим, которые, казалось, были рады поменяться человечками). Но получалось так, что мои оставались при мне и не могли ни уйти от меня, ни найти себе спутников или замену.
Вот так обстояли мои дела, и радоваться тут было нечему: я чувствовал себя в своем теле, как в огромном монастыре.
Тем временем прошли годы, здоровье ко мне вернулось, потом — еще годы, потом — война, нужда, и я был снова подавлен, а мои человечки стали такими крохотными и нечеткими, что их кто угодно мог согнать с места, а кое-кому удавалось даже похитить их у меня, что они и делали с нахальством сильных.
Глядя на все это, я осознавал, как далеко зашел в своем отчаянье. От самоубийства меня удерживал даже не страх смерти, а просто неспособность на что-то решиться.
Тем временем прошло еще много лет, война кончилась, ко мне вернулись память и силы, и тут я обнаружил, что обзавелся семьей, пятью детьми, и у меня теперь нет своего угла, где бы я мог бы приткнуться с моей цепочкой человечков.
Так они и пропали, а я-то думал, что связан с ними на веки вечные.
Алфавит
(пер. А. Поповой)
Когда на меня повеяло холодом подступающей смерти, я присмотрелся ко всему живому — в последний раз.
От смертельного прикосновения этого леденящего взгляда всё, кроме самого главного, исчезало.
Но я продолжал тасовать мир живых существ, пытаясь найти что-то, что устоит перед Смертью.
А они съеживались, съеживались и наконец так уменьшились, что стали напоминать алфавит, только он годился и для другого мира, для любого другого мира.
Так я перестал бояться, что у меня отнимут всю вселенную, в которой я жил.
Эта схватка меня укрепила, и я, цел и невредим, рассматривал алфавит, когда кровь удовлетворенно хлынула в мои артериолы и вены, и я начал медленно отползать от обрыва собственной жизни.
Те, кто ко мне приходил
(пер. А. Поповой)
Я не сказал бы, что те, кто ко мне приходил, и вправду были ко мне, ну да ладно… а если кто-то считает, что это к нему, — пусть объявится.
Они приходили ко мне, полагаясь на мою безучастность, и оставляли ненужные части тела. Отрезанные руки, голый торс, а вот покачивается, откинулась назад, голова из мертвых ветвей, или топорщатся три-четыре гребня перьев над горделивым лбом, или тот же тающий в воздухе лоб развевается, будто шарф; у этих дарителей рук да ног душа нараспашку, наивность, лица цветут, взгляды — как чаша, и все же они стараются не бросаться в глаза, как цветочки полевые, неразличимые среди тысяч собратьев.
Так они приходили, а чаще других приходил он — единственный, Король-мозгоглаз, с расщепленным пером, Король, что умеет сдерживать оползни в человечьих делах. Миролюбивый Король с колодезным пузом. Король с пальмовой ветвью.
Я искал попутчика, а нашел Короля. Вжились и вжались друг в друга, и взгляд его — маяк в полушариях моей жизни.
Ну, а ты, ты подходишь все ближе, и глаз у тебя — как просунутая в окно голова, ты кто? Подглядываешь, сдерживая и дыхание, и чувства, прячешь руки, которые рассказали бы слишком много, а глаз у тебя — как бык, что просовывает рога сквозь колючую изгородь соседского луга. Какой нежданный тропизм повернул тебя к ближнему твоему? Ищешь кого-то? Или уже нашел? А может, ошибся адресом?
Худосочные, непригодные для жизни, опустошенные поиском, люди из ниоткуда — вот моего поля ягоды.
Точеные князьки-гордецы колют глаз своей независимостью… Князья Падучей… И вот Князь — ведь он все еще Князь… Вот князь одноокий судья (другой судья, господин копья пока не пришел, его ждут). Вот князь одноокий судья, и молния блистает в руке его, и молния венчает главу.
Порой у него на лбу видна струйка крови. Или это собственный ад его истязает?
Князь-громовержец презрел злословье, выполнил уговор — проник в сиянии молний в промерзший воздух жалкой коморки, в которой я даже и не хозяин. Пальцы его — яркий свет, пробегают, словно ударная волна динамита, когда он взорвется в расщелинах скал, где только что яростно рыскал. Быстролетный князь, втиснутый в свой зигзаг. Августейший князь, разбитый трепетом сотрясений. Князь — слияние пламени и человека.
Письмо
(пер. В. Козового)
Я пишу вам из некогда ясной страны. Я пишу из страны тумана и мрака. Мы живем — живем долгие годы — на Башне с приспущенным флагом. О лето! Отравленное! И неизменно все тот же день: день, который врезался в память…