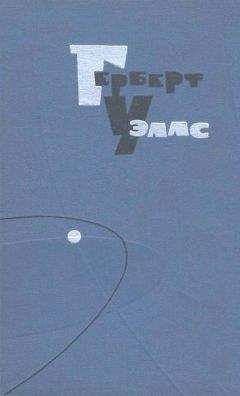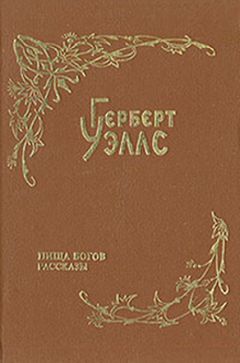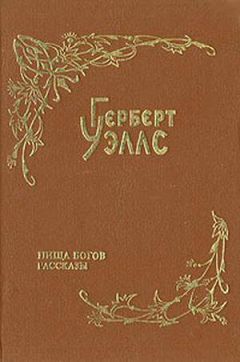Герберт Уэллс - Бэлпингтон Блэпский
— Никто никогда не верил в бессмертие, кроме как для себя, — сказал Мелхиор своим ровным голосом. — Для себя и для того, что является частью этого «себя». Никогда никто не верил в бессмертие людей каменного века или в бессмертие дикарей. И никто никогда не поверит.
— Это увертка, — сказал Тедди, — то, что ты сказал насчет времени и пространства. Это психологическая увертка. Ты не можешь изъять жизнь из времени и пространства так, чтобы она вращалась вокруг самой себя и видела только тебя. А ты заявляешь, что можешь. В этом весь фокус. Возможно, есть что-то непостижимое и безграничное вне времени и пространства, но это не жизнь и не смерть и не является частью нашей ясной и определенной природы. Это — нечто до такой степени чуждое нашему миру, что, по сути дела, я хочу сказать в нашей действительности, это вовсе не существует.
Он остановился на мгновение, словно почувствовав, что почва ускользает у него из-под ног. Казалось, он подыскивает в уме что-то, чего не может найти. Он резко закончил поучительным тоном опытного эксперта:
— Индивидуальность — это часть механизма земной жизни. Вот моя точка зрения. А смерть и рождение неотделимы от индивидуальности.
Теодор сделал не очень решительную попытку высказать свою точку зрения. Но вся окружающая атмосфера была против него. Все они, за исключением Маргарет, были так навязчивы в своих суждениях, так шумно выражали их, что оказалось просто невозможным изложить им ясно свое новое отношение к смерти. Правда, он попытался, но тут же вышел из себя и едва не наговорил им грубостей и колкостей в ответ на их ехидные замечания. Трудно было сохранять спокойствие и держать себя с ними так, как если бы они тоже были вечными, бессмертными реальностями, покоящимися в лоне абсолюта. Слишком явно выступала их суетная природа. Были моменты, когда его вновь обретенная душа впадала в такую ярость от их выпадов, что она чувствовала себя совсем не как вечная реальность, покоящаяся в лоне абсолюта, а скорей как сильно избалованная комнатная собачка, которую раздразнили, и она еле удерживается, чтобы не броситься на них из этого лона со злобным, презрительным тявканьем. Он остро почувствовал, что в этой жизни наши глубочайшие и сокровеннейшие убеждения должно хранить про себя.
Но если они не понимали его и не соглашались с ним, собор св.Павла, по-видимому, понимал и соглашался, и он ходил туда, тихо садился в боковом приделе, погружаясь в это безмолвное величавое сочувствие, слушал орган и успокаивался.
Он сделал другую попытку с Маргарет.
Он подкрепил их молчаливое примирение, состоявшееся во время кремации его отца, отправившись с нею однажды в бодрящий морозный день на далекую прогулку от Виндзора до гостиницы в Вирджиниа Уотер, прогулку, которую он однажды совершил с Рэчел. Воспоминания о Рэчел скорее обогащали, чем затрудняли, это повторение. Ему не терпелось наградить Маргарет бессмертной душой, и его раздражало, что она не проявляет ни малейшей готовности принять этот дар.
Удивительно и непонятно, до какой степени им трудно было найти общую почву. Их умы, складывавшиеся под совершенно противоположными влияниями, усвоили настолько различные формы выражения, что их представления абсолютно не совпадали. Когда он говорил о «душе», она говорила о личном «я», и при этой подстановке все его доводы ускользали.
Она могла представить себе, говорила она, что вся вселенная в каком-нибудь одном аспекте может быть не более чем видением, созерцаемым сквозь кристалл некиим вечным созерцателем, или грезой восседающего на лотосе божества.
Можно придумать тысячу таких красивых вещей, шутливо соглашалась она, но она не отвечала ни «да», ни «нет» на его страстный призыв приблизиться вместе с ним некиим чудесным образом к вечному бытию этого созерцателя или сновидца. Она не допускала и мысли об этом новом абсолютном Бэлпингтоне в его новообретенном Блэпе вне времени и пространства. Какое это имело отношение к их обыденной жизни?
— Мы живем и умираем, как говорит Тедди, — упорствовала она.
Она упорно держалась своей формулировки, что от нас не остается ничего, что могло бы жить после смерти, кроме наших потомков.
— Но ведь наши потомки, — возразил Теодор, — не больше мы сами, чем наше окружение.
Она признала, что была нелогична.
— Но это все сводится к тому же, — сказала она.
Их спор разрастался, затрагивал другие вопросы.
— Я не вижу смысла в альтруизме, — внезапно заявил Теодор. — Почему мы должны жить для других больше, чем для себя? С какой стати нам подвергать друг друга моральному очищению, как это делалось некогда на островах Силли? Мне это кажется просто какой-то бестактностью. Зачем нам залезать в жизнь других людей? Пусть живут сами по себе.
Но ей уже приходилось сталкиваться на этой дорожке в ее спорах с Тедди.
— Поскольку человек не эгоцентрик, — возражала она, — ему нет надобности непременно быть альтруистом. Это вовсе не вытекает одно из другого. Люди могут жить для более широких целей, чем личное «я». Их собственное «я» или «я» другого человека — всякое «я» умирает. «Я» должно умереть. Но у природы, говорит Тедди, нет оснований покровительствовать эгоцентрикам. Мы постоянно думаем о себе, но по мере того, как мы становимся разумнее и расширяем свой кругозор, мы также стремимся отрешиться от себя. Мы находим что-то другое, что кажется нам больше и значительнее.
— Что же это такое?
— Вы должны чувствовать, что есть нечто большее.
— Но что может быть больше и значительнее, чем бессмертная душа? — спросил он.
Она засмеялась.
— Но я же вам говорю: я не понимаю, что вы подразумеваете под бессмертной душой. И ведь вы только недавно начали говорить о душах, Теодор. Я не принимаю этого всерьез, но все-таки — что такое душа?
Он терялся, он не находил, что сказать.
Если вы говорите человеку о его бессмертной душе, а он отказывается принимать всерьез ваши слова, что тут можно сделать? Это все равно, что спорить об оттенках красок со слепым. Кто может определить, что такое душа? Определить — значит отринуть это. А духовная слепота Маргарет приводила к полному расхождению их взглядов и на все остальные жизненные ценности. Различие между ними глубоко огорчало его. Она материалистка, но и Рэчел тоже материалистка. Материализм Рэчел можно было понять, она приходила к логическим выводам из своих убеждений прямо и просто. Но материализм Маргарет и Тедди отдавал фанатизмом, экзальтацией. Они были фанатиками истины, фанатиками какого-то неясного, но повелительного «служения». И этот фанатизм делал Маргарет далекой и недоступной, такой далекой, какой могла сделать какая-нибудь слепая вера. Она была безбожная пуританка; она жила и управляла своими поступками согласно своей вере, хотя, по-видимому, это была вера в ничто. Наука? Прогресс?
Он смотрел на Маргарет, идущую рядом с ним. Время от времени он слегка задевал ее, дотрагивался до ее руки или брал ее под руку. Ее лицо было желанно и дорого ему, ее серьезные глаза и чуть заметная тень улыбки на губах. Казалось, она была довольна, что идет с ним. Ее гибкое тело непринужденно двигалось рядом с его телом, ее плечи на два-три дюйма пониже его плеч. Она молча впитывала радостным взглядом зеленые просторы, богатым узор обнаженных и залитых солнечным светом деревьев, сверкающую воду, ланей, водяных птиц. И она не хотела владеть его душой, а стремилась делать свое дело в этом пространственном мире; она не хотела принадлежать ему и предательски заглушала свои желания, хотя — он чувствовал это инстинктивно — ее влекло к нему. Он знал наверное, что ее влечет к нему, — в этом отношении он был уверен в Маргарет гораздо больше, чем в Рэчел.
В чем заключалось различие между ним и ею? В чем различие между ней и Рэчел? Было ли в ней какое-то качество, которого недоставало Рэчел, и Рэчел знала, что ей его недостает? Было ли это нечто реальное или существовало только в его воображении? И существовало только потому, что он внушил себе, что влюблен в нее? Или она в самом деле сильнее и лучше Рэчел и его самого?
Ему вспомнилось выражение «безбожные пуритане». Удачное выражение. И она и Тедди твердо решили не шутить с жизненными ценностями. Они изо всех сил старались честно и прямо смотреть в лицо жизни, не позволяя себе уклоняться даже в воображении.
В те дни экономического и социального расцвета, предшествовавшего Великой войне, расцвета настолько неоспоримого, что он казался неизбежным, их вера в прогресс представляла собой нечто совершенно естественное. Но Теодору развитие мира, в котором он жил, казалось таким бесспорным и само собой разумеющимся, что он даже не считал нужным способствовать этому развитию. Одно время он почувствовал, что и его захватывает эта для всех обязательная повинность. С тех пор он был склонен выражать протест, защищать традицию и обычай против этого стремления к прогрессу и новшествам. И теперь, когда он задумывался над этим глубоким расхождением между ним и Маргарет, в памяти его воскресла вдруг вереница фантазий, которые зародились у него год или два тому назад в Блэйпорте. Он вспомнил разговор Раймонда и Уимпердика о фантастическом романе Конрада и Хьюффера, об этих Наследниках, людях другой породы, которые упорно и неуклонно разрушали все жизненные устои — с благими или дурными целями, этого он не мог сказать. Мечты, в которых Маргарет играла роль Наследницы, снова всплывали в его сознании. А какова была его роль? Всегда это было нечто более возвышенное, более благородное, нечто несравненно более достойное, что Затмевало все знания Тедди, устраняло всякие подозрения в собственном невежестве, выдвигая взамен исключительную утонченность душевного склада. У него была «душа», у них — нет. И всегда в конце концов он отвоевывал Маргарет, она отрекалась от Наследников и отвечала пылкой любовью на чувства Бэлпингтона Блэпского.