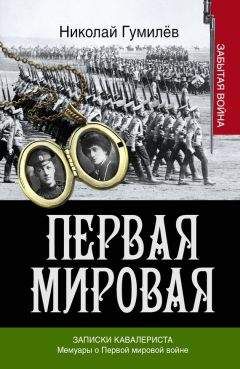Лев Рубинштейн - Альпинист в седле с пистолетом в кармане
Ни один офицер не ответственен ни перед кем за убийство своих подчиненных солдат. Наоборот. Чем больше потери, тем серьезнее была операция, и ты герой.
— У тебя капитан, я думаю, перебор, — сказал я. — Может быть, не следовало останавливать и воевать с немцами? Отдать им всю Россию?
— Зачем же, — сказал он, — не следовало заключать договор с Гитлером и Рибентропом, предавать англичан, французов и других чехов.
— Я не хочу защитить тупорылых правителей, — ответил я. — Историю хорошо судить, сидя у камина в победном кресле. Однако! Затянись начало войны и поспей к концу ее у Гитлера атомная бомба — где бы мы с тобой были сейчас?
— Мы были бы по разные стороны баррикады, — сказал он. — Теперь мы по одну сторону. И латышей и евреев не ожидает ничего хорошего. Так что мы с тобою, майор, будем одинаково по шею в гавне вместе с нашими ранениями и орденами.
— Ты — смельчак! На фронте говорили: когда разговаривают три офицера, два из них доложат в КГБ.
— Мне терять нечего. Меня уже записали там, — сказал он, — и моих-своих, там на родине уже всех забрали.
— Куда же ты теперь?
— Не знаю пока. «Они» затеряли мой след, сижу здесь. Можешь пойти, майор, и доложить. Ни хрена ты за это не получишь, но все же выполнишь «долг» перед родиной.
— Я, конечно, сильно рискую. Ведь и ты можешь поспешить и доложить о том, что я не доложил?
— Я тебя понял, — сказал он.
— И я тебя, — сказал я. — На, хлебни, очень холодно, — и передал ему; прикрыв шинелью, бутылку виски.
Он сделал большой-пребольшой глоток и возвратил флягу: — Спасибо! Ты не как еврей, а как латыш.
— Все будет хорошо, — сказал я.
Прошло еще несколько дней. Капитана я больше не видел. Койка его остыла. На третьей неделе решилась моя демобилизация. Вот счастье для души настало! Последнюю бутылку отдал (на ускорение) в строевой отдел, и настал канун отъезда. Куда вонь и сырость канули. Верхняя коечка моя скрипела, а я в секу играл. Теперь можно. Подоспел доппаек, и пошла игра. Почти всю ночь сидели. Два раза все продуванил, и, наконец, «пошло». С выигрыша уходить нельзя, и играли мы до тех пор, пока интендантское добро не легко кучей к моим ногам. Иногда у меня крали банку, и опять шла игра.
Наконец, я выиграл весь запас и чемодан на урне и саму урну, и ни у кого из противников не осталось ставки. Тогда я набил кофр консервами и все непоместившееся роздал на еду, но без игры (без права ставить).
К выигрывающему у игроков всегда почтение. На вокзал двое проигравших (на одежду я не играл) несли на палке мой чемодан и, одаренные, побежали обратно проигрывать свой достаток.
Я поехал и поехал, и приехал к своим голодным женщинам (их у меня было четыре) в Ленинград с чемоданом-кофром, полным консервов. Посторонним в то время въезд в город был закрыт.
Ирочка приехала с Леной как моя семья, а ее мама — Мария Фроловна Седенкова со своей дочкой (от второго брака), тоже Леной, приехала, завербовавшись в строительную организацию (трест) главным бухгалтером.
Бухгалтерам, особенно главным, почет, и Седенковым дали очень большую комнату в коммунальной квартире. Комната была настоящим залом метров семьдесят-восемьдесят в старом питерском доме, взятом трестом на ремонт. На стенках интересная лепка, паркетный пол и печь с камином (без центрального отопления). Февраль сорок шестого. Холод и продувка из больших окон и ледяного коридора. По стенам четыре железные койки аккуратно застелены. В середине стол, четыре стула и еще старинный комод, обнаруженный на чердаке.
Встреча с Ирочкой и Леной были трогательны и по-настоящему радостны. Мария Фроловна сдержанна и напряжена и даже как-то растерялась. Было известно, что я жив и скоро вернусь, однако опять приехал неожиданно. Уже сложилось сообщество под ее руководством. Ирочка еще не работает (уже устроилась, но еще не начала) — и подавлена полной зависимостью. Мать работает и еще шьет. Кормилец с деспотическим характером и прямолинейна, как штопор.
Две девочки. Ленка старшая — школьница, и моей маленькой, миленькой Леночке шесть лет. Итак, я приехал…
Не снимая шинели, пообедали. Чемодан продуктов Марии Фроловне понравился, а я не понравился. И за обедом она была сурова. А сразу после него сказала: «Нам, Лев, нужно поговорить серьезно. Должна тебе сказать, что мы с Ирой уже условились, что будем жить вместе».
Ирочка мнет в руках платочек и молчит:
— Я приехала в Ленинград с той целью, чтобы жить вместе с детьми. Иначе я могла оставаться там, в Куйбышеве. Я продала всю мебель, оставила квартиру и приехала сюда. Ирочка дала согласие. Так что ставлю тебя об этом в известность.
— Но ты не спросила согласия у меня.
— Это уже твое дело, а мы будем жить вместе, и точка.
Вот чего я не ожидал…
Тут, подумал я о тех офицерах, оставленных в Кеми. Не хотятвозвращаться домой. Многих ждут домашние драмы. Выжил в таком аду, а дома жена уже с другим, или… как у меня, бешеная теща и обиженная жена…
Да я повешусь с тобой на третий день, подумал я, но сказал иначе.
— Уважаемая Мария Фроловна! Мы с вами очень разные люди. Вместе нам будет очень трудно ужиться. Давайте лучше дружно жить врозь, чем ссориться, живя вместе.
— Я тебе сказала, и все. Никаких не может быть вариантов. А не нравится — ищи себе где лучше.
— Так вы хотите меня разлучить с любимой женой и ребенком?
— Зачем? Я тебя «пока» не гоню. Хочешь, можешь жить с нами.
— Тогда слушайте мое слово, — сказал я. — Ни я с вами, ни вы со мной жить не будете. Я пришел с войны, я остался жив и буду сам устраивать свою семью и свою жизнь. Вы Ирочкина мать, и я всегда готов с вами дружить и помогать вам. Но жить вместе мы не сможем и не будем. Пройдет время, и вы сами скажете, что я поступил как настоящий мужчина (эти слова она сказала мне через пять лет).
Ирочка молча плакала, ничего не говоря. И всю ночь они проплакали, шепчась на материнской кровати. Я тоже не спал, стоял в шинели у окна.
Такими были первые сутки дома. Война для меня еще не кончилась!
Утром я уехал в Политехнический. Мне возвратили нашу маленькую квартирку из двух комнат в аспирантском доме — общежитии. Притащил я ломаный шкаф, две с половиной железных кровати, набил стружкой матрасы, взял в институте старый стол и два стула и на следующий день перевез Ирочку с Леной в свой дом.
Еще два года на занятия ходил в шинели и кителе.
Все, казалось бы, начало входить в плавный поток. Однако два обстоятельства сотрясали его течение.
Первое — та самая водочка! Четыре года я пил ее каждый день, и не по разу. И всегда больше нормальных. Рачительный старшина получал водку на приписанный состав, не показывая погибших и раненых, у него резервная канистра не пустела, а у нас, офицеров, фляжечки тоже не просыхали. Когда бои затихали, он разбавлял ее, сердешную, водичкой, отлив нам хорошие порции цельной. Мы делали вид, что не знаем, откуда берется, но пользовались исправно.
На рассвете ординарец Кролевецкий подносил мне алюминиевую кружечку и сковородочку жареной картошечки с салом. Днем у соседа справа, комбата Сабурьянца, по кружечке, потом ко мне в землянку заходил, проверяя посты, командир артдивизиона, и так далее, весь день.
Никто пьяным не был, но все веселые. Все живые и целые были в «форме».
После мира водки не давали. Не давали бесплатно, но в офицерской столовой ее было вволю. И без нее мы не обедали. Приходилось сокращать потребность, однако весь остаток от аттестата (перевод жене) тратился на водку. А вот в аспирантской стипендии этого параграфа не было предусмотрено, и я стал страдать.
Будто паровой каток по мне прокатывался. Руки начинали трястись, раздражительность стала заметно мешать жизни дома и на службе. Тогда не было формулировок, но если бы я обратился теперь с такими показателями состояния организма, то был бы признан страдающим алкоголизмом второй степени. Тело мое было совсем хилым. Из мастера спорта и рекордсмена превратился в развалину. Я мог пробежать только десять метров. На пятый этаж поднимался с двумя остановками — не хватало дыхания. И не хватало денег на водку. Что делать?
Я стоял на грани конца.
Делал разные попытки выйти из этого кризиса, заметил, что в тот день, когда я делаю свои мизернейшие пробежки, мне нужно меньше водки для приведения себя в сносное состояние. Этот опыт меня сильно вдохновил.
Я стал пробежки увеличивать, а водку уменьшать. Это была серьезная борьба за себя. Тем более, что я скрывал свое пристрастие даже от жены, близких друзей и родных.
Два года продолжался нулевой вариант — этап борьбы. К концу этого срока я бегал круг — восемь километров по Сосновке за 40–45 минут и не пил совсем, нисколько.
А если в гостях капельку принимал, то чувствовал себя очень плохо.
Пить не мог совсем, как подшитый, в общем стало ясно: или пить, или жить.
![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/uploads/posts/books/243518/243518.jpg)